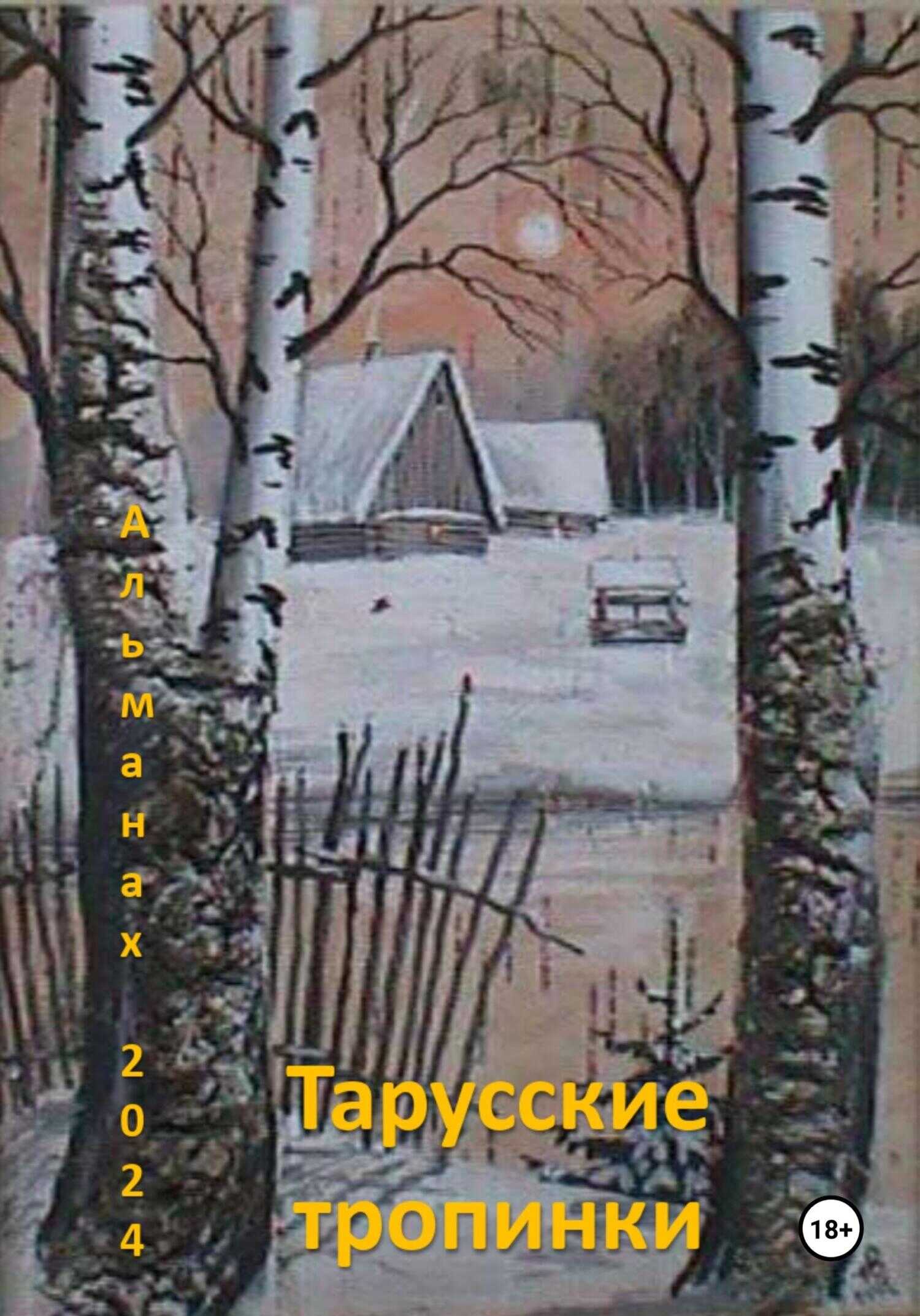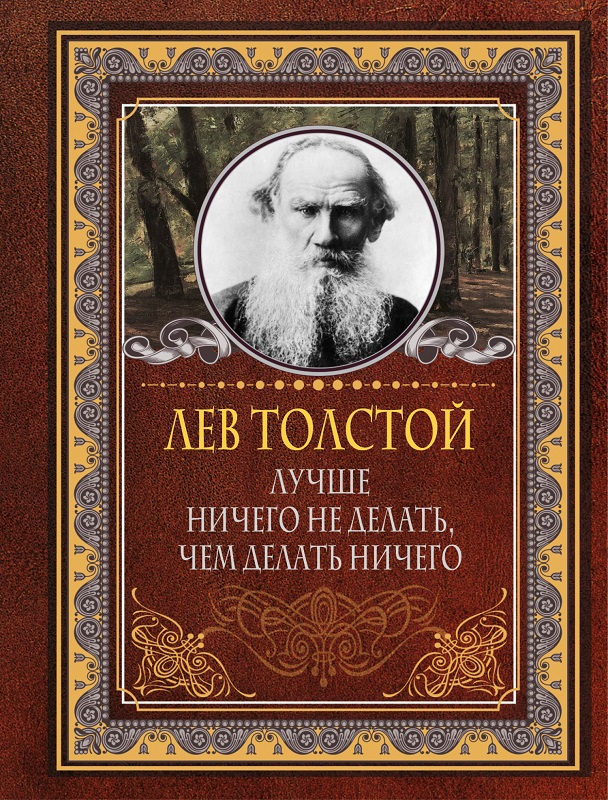открываться. Говоришь, ты прожил там какое-то время. Где именно?
– Я же сказал, Патрицио, я не хочу об этом говорить. Это не твое дело.
– Скажи нам, по крайней мере, давно ли ты живешь У дяди.
– Уже много лет.
– Слишком расплывчато.
– Мне нечего прибавить.
– Ладно, оставьте его в покое, – пришел на помощь Федерико, водружая с довольным видом, словно Фальстаф, в центре стола дымящиеся спагетти. – Мой подзащитный воспользуется правом хранить молчание.
В том, насколько ловко он раскладывал пасту по тарелкам, щедро поливал ее маслом, украшал базиликом и посыпал пармезаном, было что-то напоминавшее заводской конвейер и одновременно сладострастное.
– У нас тут не суд, – сказал Патрицио, хватая свою тарелку. – Просто мне любопытно. Наш Профессор – такой загадочный человек. Что ж, попробуем зайти с другой стороны: скучаешь по прежней жизни?
Обильное солнце, конопля, аперитивы и красное вино на ужин подвергли гибкость моего ума серьезному испытанию. В висках стучало так, словно в голове сломался мотор. К боли примешивалось отупение, как будто вместе с ориентацией в пространстве я того и гляди должен был утратить осторожность и самоконтроль.
– Не знаю, о чем ты.
– Про прежнюю жизнь. Посольство, самба, танго, бал дебютанток…
– У меня не осталось особых воспоминаний.
– Неужели?
– Нет, думаю, нет.
– А отец?
– Что отец?
– Судя по тому, как ты о нем говоришь, он был выдающимся человеком. Его-то ты помнишь?
– Ладно, Патрицио, не перегибай палку, – снова вмешался Федерико с набитым ртом.
– Да нет, пускай, – заткнул я его с легкомыслием обвиняемого, упорно не замечающего знаки, который подает благоразумный защитник. – Раз ему это нравится.
Мрачная, нездоровая тишина, казалось, подчеркивала коварство происходящего – в нашем тесном кругу коварства было хоть отбавляй. Обычно подобные сцены сопровождались мерзкими, злобными смешками. На этот раз нет. Все хранили торжественное молчание – то ли замерев от неловкости, которую испытывали по отношению к обвиняемому, то ли от возмущения поведением расследователя. Было ясно, что Патрицио не ослабит хватку, а я готов положить голову на плаху.
– Как можно забыть отца? – удивился я.
– Расскажи нам тогда, какой он был.
– Хороший, – ответил я, изображая беспечность. – Намного лучше тебя.
– Правда?
– Не сомневайся, мерзкий ты сукин сын.
– Что ты, не надо меня обижать. Все свидетели, я ничего плохого тебе не сказал. Это как-то не по-профессорски – оскорблять людей. Надеюсь, ты хоть в этом со мной согласен. А ты наш Профессор, ведь так?
– Пожалуйста, не надо так меня называть.
– Ну да. А как же тогда мне к тебе обращаться?
– Можно вообще не обращаться.
– Ну а если без этого не обойтись? Положим, мне нужно к тебе обратиться. Как ты хочешь, чтобы тебя называли? По фамилии? А какой? Скажи нам, мы сделаем так, как ты хочешь.
И тут я понял: ему все известно. Он знал больше, чем говорил, ему нравилось играть со мной, как кошка с мышкой. Не знаю, при помощи каких коварных махинаций он докопался до правды. Болтливые общие знакомые? Непредвиденное стечение обстоятельств, над которыми я был не властен? Частный детектив, которому он заплатил, чтобы прижать к стенке соперника в амурных делах? Одно было ясно: он все знал.
– Очевидно, – сказал я, стараясь успокоиться, – не я один выпил лишнего.
– Ты ошибаешься. Я не пьян. Наоборот, трезв как стеклышко. Еще и поэтому я заявляю: пора положить конец этой дурацкой комедии. Ты перешел все границы дозволенного.
– А ты? – спросил я, словно ребенок. Выглядело это смешно.
Патрицио запустил руку в карман рубашки и медленно, торжественно, театрально, с видом судьи, намеревающегося удалить меня с поля, достал газетную вырезку. Очевидно, он собирался, предвкушая это неизвестно сколько времени, бросить ее на растерзание гиенам. Всего за полминуты помятая вырезка совершила вокруг стола путешествие, сопровождавшееся отвратительными возгласами удивления и ужаса, и достигла того, кого она непосредственно касалась. Прежде чем прочитать статью, я собрался с силами и вперился в черно-белую фотографию. Впрочем, она была мне знакома! Снимок появился в крупнейших газетах сразу после маминой гибели, на нем была наша семья в полном составе: я, мама и папа. Если уж быть до конца честным, выглядели мы не ахти. За несколько дней до моего отъезда в Америку мы сходили в зоопарк, где по просьбе отца нас кто-то сфотографировал. Какой-то шакал стащил снимок с полки, где его держала мама. Тем не менее, как только я наткнулся на это фото – в газете, среди криминальной хроники, рассказывавшей о кровавых преступлениях, – я догадался, почему вор остановил свой выбор на ней: фотография как нельзя лучше отражала печальное положение распадающейся семьи, в которую вот-вот войдут ужас и горе.
Разоблаченный, неспособный нанести ответный удар, сраженный неопровержимостью фактов и впечатлением, которое произвел на меня этот снимок, я мог сделать одно – прочесть название и фразу под ним. Я так и поступил, ограничившись этим. Насколько я понял, приговор отца пересмотрели. Если верить автору заголовка, истина, которую установил суд три года назад, закрыв это страшное дело, оказалась очередной ложью.
В елизаветинском театре тут появились бы волшебники, духи и эльфы. Ясная ночь, лесные ароматы стоящего у порога лета, нежный, заставляющий замереть стрекот сверчков – идеальное обрамление, чтобы плести колдовские сети или заниматься ворожбой. Прибавим к этому повышенное содержание этилового спирта в крови героя, усиленное только что свершившимся публичным разоблачением: что лучше придаст форму и правдоподобие солило-квию, выдающему себя за диалог?
С какой же радостью я слышу голос мамы, которая призывает взять себя в руки и пуститься в бегство: загробный мир, где она очутилась в силу кошмарных обстоятельств, никогда не был настолько близок к нашему миру, в котором я окончательно запутался, переживая такой же кошмар. Мама, как обычно, успевает следить за всем и шепчет мне на ухо, чтобы я ничего не забыл: рюкзак, ключи от дома, последний нежный взгляд на Софию (наше расставание неизбежно), но главное – не гнать на поворотах дороги, которая минут через десять приведет к автостраде.
Так, пока мама велит не слишком жать на газ – Ты сам видишь, что не в состоянии вести машину, – я не придумываю ничего лучше, как вывалить ей в лицо все обвинения, которые крутятся у меня в голове, cahier de doleances длиною в жизнь – многословные, запутанные, дерзкие претензии. Начинаю с поступка дяди Джанни, говорю маме, что не могу его простить.
Какого поступка?
Тебе прекрасно известно, не прикидывайся. Я о том, как он утром спрятал газету. Когда он меня увидел, его чуть удар не хватил.
Возможно, он хотел тебя защитить?
Защитить?