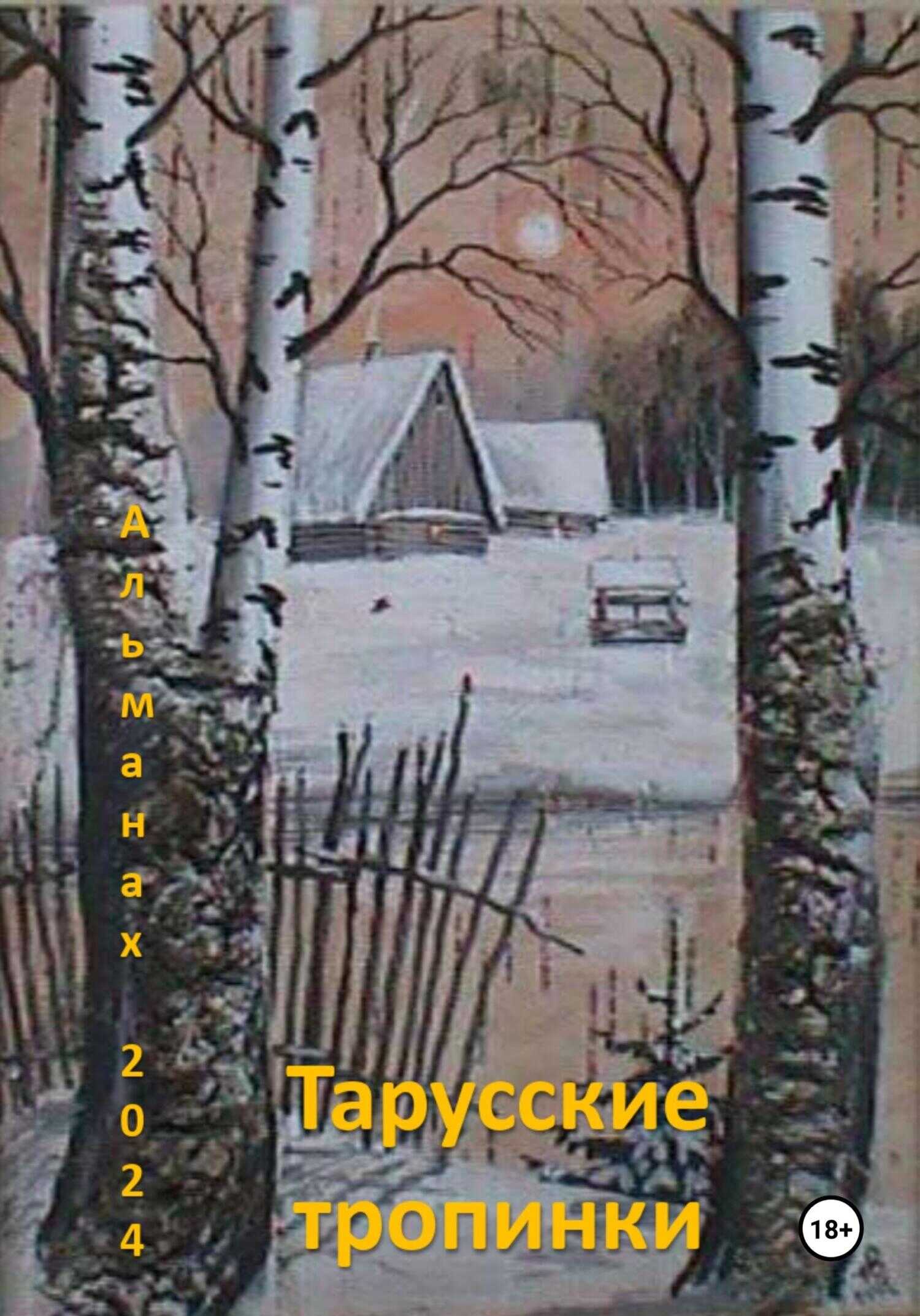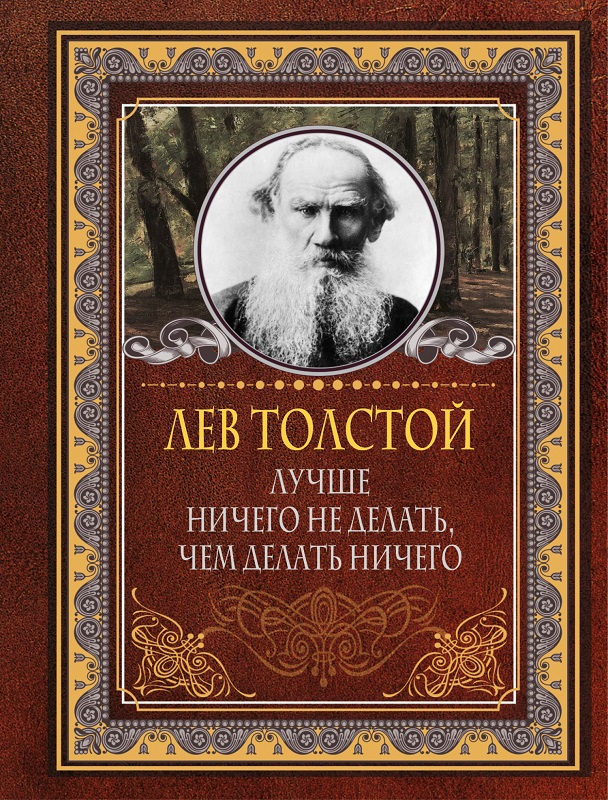с тем, с чем нам было жаль расставаться. По правде говоря, вряд ли нас беспокоила судьба других. Мы были давно знакомы, тесно общались, но мои друзья никогда еще до такой степени не погружались в романтический солипсизм. Это касалось и меня – озябшего, мрачного, сражавшегося с призраками и пытавшегося заклинаниями изгнать злых духов. Однако, как мне казалось, хотя бы одно преимущество по сравнению с ними я завоевал. Да, в отличие от Софии или Федерико я не мог похвастаться беззаботным детством, как у героев Толстого: расписанные фресками дворцы, grand tour[109], надежда на богатое наследство. По сравнению с ними мое прошлое было куда обыкновеннее, а путь, приведший меня туда, где я оказался, – куда тернистее. Зато, стоя на пороге взросления, я мог предъявить пару жизней, за которые мне было несколько стыдно; как ни ломал голову, я не мог решить, которой из них стоит больше стесняться. Тем не менее накопленный тяжелый опыт, которого я бы предпочел не иметь, превратил меня в умелого актера и ловкого мошенника. Я уже много чего пережил – больше, чем способен вынести всякий юноша, если только он не герой викторианского романа. Оставалось мечтать о спокойном, буржуазном существовании, без взлетов и падений. У меня накопилось достаточно материала для психотерапевта, любителя неизжитых травм или охотника до фольклорных архетипов. Согласно приговору суда, я видел своими глазами, как отец совершил убийство; я опоздал на несколько секунд и не успел увидеть тело мамы, лежавшей неподвижно, как манекен, на тротуаре прямо у дома; я подвергся допросу, достойному пера Достоевского, который вел коварнейший следователь; благодаря столь щедрому опыту и помощи матушки-природы я все в себе изменил – особые приметы, личность, воспоминания, и, раз уж зашел разговор, я любил – вернее, продолжал любить неправильной любовью – свою кузину, которая в силу печальных, но вполне предсказуемых обстоятельств последние недели разгуливала по улицам Тель-Авива в берете и камуфляже. И все это ради чего? План дяди Джанни сделать из меня джентльмена и хорошего еврея столкнулся с непреодолимыми препятствиями. Начиная с ресентимента, который не слишком подходит аристократу. Что же до моей идентичности, как бы мне ни было жаль, в моих венах текла мутная, смешанная кровь, похожая на дешевый коктейль. В этом, по крайней мере, родители не ошиблись, они превратили меня в то, что французы называют deracine — красивое словечко, обозначающее ублюдка, помесь, человека без корней и без родины. Вот кто я такой: неудачный эксперимент, который, слава богу, нельзя повторить; иными словами, испорченный плод генетических опытов, которые в здоровом обществе следует запретить.
Как видно, к тому времени у меня набралось уже достаточно материала, чтобы погрузиться в единственную книгу, которую мне было предначертано написать, – ту, что вы держите в руках. Хотя во мне было достаточно фарисейства, чтобы не задумываться всерьез о литературном призвании, по неопытности я не представлял, с какими трудностями столкнусь, излагая воспоминания черным по белому. Увы, той прекрасной ночью я еще не знал: чтобы позволить себе роскошь вызывать призраков прошлого – с жаром, но и с должной отстраненностью, – мне предстояло многому научиться, совершить странствие по пустыне, все тяготы которого по тогдашней наивности я даже не воображал. Тогда я еще не знал: чтобы найти правильные слова, одной печальной жизненной истории недостаточно. Нужно время, чтобы твоему голосу поверили.
Тем временем каннабис, подействовав на незрелый и гиперактивный метаболизм, вновь разбудил аппетит. Федерико предложил устроить полуночное поедание спагетти. Волоча за собой пледы, мы перебрались в кухню – темное, просторное, почти средневековое помещение, стены которого были увешаны медными кастрюлями и сковородками; там был камин, грозно разевавший пасть на древний, еле живой деревянный стол, вокруг которого мы кое-как разместились. Сухие гортензии и казавшиеся окаменелыми тыквы украшали мраморную поверхность, на которой Федерико нарезал лук и морковь для софритто.
– Жалко, Проф, что ты не взял с собой гитару. У меня есть новые ноты. Развлеклись бы.
Сделав вид, что расстроен, я весь сжался в своем уголке, как грустный поскуливающий щенок. Только гитары нам не хватало! Для меня вечер уже завершился. Если подумать, по-настоящему он и не начинался. Хуже того: если оглянуться назад, весь день оказался провальным, заслуживал быть стертым из календаря. Скажу в свое оправдание, что отсутствие аппетита в сочетании с неумеренным потреблением алкоголя придает всякому суждению нездоровую мелодраматичность.
Тогда-то Патрицио и поинтересовался, давно ли я играю. Я ответил, что уже много лет. Забыв о привычной осторожности, я ударился в подробности, как часто бывает с пьяными. Признался, что давно не мечтаю о славе, так как не похож на рокера, не наделен physique du role[110].
– А кто тебя научил играть?
– Мой отец – первоклассный гитарист. – Расслабившись, все хуже соображая, я употребил не то глагольное время. – Вернее, был, – поправился я.
– Он же был послом, нет?
– Что-то в этом роде.
– А где он служил?
– В Южной Америке.
– Проф, Южная Америка большая. Где именно?
Кроме возившегося с томатным соусом хозяина дома, все внимательно слушали: их интриговали не столько загадки моего прошлого, сколько наглость, с которой Патрицио вел допрос.
– Слушай, тебе-то какое дело? – Я встрепенулся, пытаясь выбраться из ловушки, в которую сам себя загнал.
– Мне? Никакого. Я просто спросил.
– Зря тратишь силы, – сказала София, подыгрывая моему врагу. И прибавила, что, проявляя болезненное любопытство к чужим жизням, о своей я молчал, как член мафиозного клана.
– Видно, ты меня плохо знаешь, – заявил Патрицио медовым голоском, который появлялся, когда он любезничал с девушками. – Помнишь Мамбли? Так вот, я похож на него. Я пес-ищейка. У меня ни одно преступление не останется нераскрытым.
– Жаль, что у нас нет трупа, – поддразнила его София.
– Это ты так считаешь.
Лишь тогда, заслышав в его голосе инквизиторские нотки, я сообразил, что это не обычное упражнение в вероломстве, которые так любил Патрицио. Увидев его в правильном свете – вернее, в густом молочном сумраке заседания народного суда, – я понял, что у него есть ясные, точно обозначенные, но пока непонятные мне цели. Возможно, ему все известно, сказал я себе и, сказав это, охваченный паникой, почувствовал, что щеки вспыхнули, как головешки.
– Значит, ты родился в Южной Америке, – не унимался он.
– В Риме.
– Но ты там жил.
– Какое-то время.
– Правда? – удивилась София. – Ты мне никогда не рассказывал. – Затем, обращаясь к напомаженному судье, добавила: – Неплохо, Патрицио, ты за две минуты добился большего, чем я за четыре месяца расспросов.
– Прошу тебя, София, не надо его перебивать. Не сейчас, когда он начал