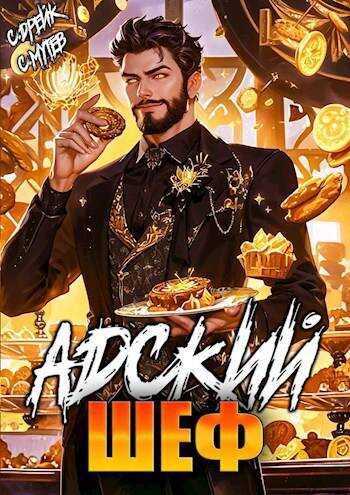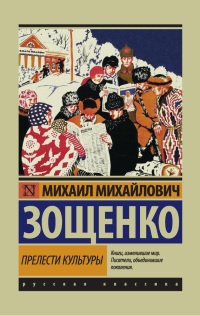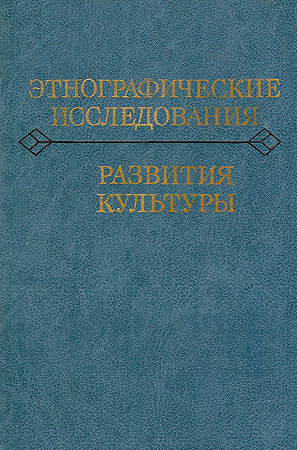речь шла о повседневной реальности, которая была уничтожена современными военными технологиями – всем этим скопищем карт, радаров, биноклей, бомб, военных самолетов, специально натренированных пилотов, – то кибернетическая эстетика говорит об исчезновении иного рода.
Мы являемся свидетелями того, как стираются границы между человеком и машиной, как аппарат чувственного восприятия человека интегрируется со всё более совершенными перцептивными технологиями. Иными словами, мы видим, как само понятие реальности постепенно утрачивает свою самоочевидность.
Это довольно удручающая картина будущего. Вальтер Беньямин верил, что коммуникационные технологии открывают возможности для политического освобождения; Маршалл Маклюэн полагал, что они являются условием создания глобальной деревни, жители которой вернутся к естественной модели освоения мира; Вирильо же видит только виртуальный телегород, который повсюду и нигде, почти тоталитарный мир, где наши малейшие движения контролируются совершенными техническими системами. Мы теперь называемся «человеческими отходами», мы навсегда оторваны от своего исходного состояния, о котором даже не помним.
Поль Вирильо стал своего рода культовой фигурой. Его почитатели, а их с каждым годом становится всё больше, утверждают, что он – мыслитель того же уровня, что и, скажем, Мишель Фуко или Жиль Делёз. В частности, так считает социолог Джеймс дер Дериан, редактор и составитель сборника «The Virilio Reader». И всё же нет никаких аргументов в пользу того, что Вирильо можно считать философом такого уровня. Вопрос в том, может ли он вообще считаться философом – по крайней мере, в строгом смысле слова.
Вирильо, скорее, культурологически ориентированный эссеист – действительно блестящий. Его метод – скорее синтез, нежели анализ. Он движется скорее вширь, нежели вглубь. Своей главной задачей Вирильо видит создание альтернативной истории современности, и основной материал, с которым он работает, – это любопытный или курьезный случай. В этом его истинная сила, но также и слабость. Поскольку Вирильо отдает предпочтение описанию случаев, а не анализу, он часто впадает в риторику, и ему не чужды теории заговора. И технический детерминизм также присутствует. Конечно, Вирильо демонстрирует – и очень умело, – как техника изменяет человека и мир, в котором он живет. Но он игнорирует главный вопрос: как именно происходят технологические изменения? И почему?
В шведском переводе можно прочитать такие работы Вирильо, как «Эстетика исчезновения» и «Война и кино». Первую книгу можно смело пропустить, потому что это наименее продуманная работа Вирильо. Хотя тогда вы лишите себя удовольствия прочитать великолепное введение Петера Хандберга. «Война и кино», в свою очередь, одно из лучших творений Вирильо. Ведь хотя он и не философ в строгом смысле слова, но критик культуры – высочайшего уровня.
Писатель Фрейд
Впервые опубликовано в газете Dagens Nyheter 13 апреля 2000 года под заглавием «Писатель Фрейд».
Однажды много лет назад я оказалась на железнодорожном вокзале в Ноттингеме. В ожидании поезда на Лондон я с головой погрузилась в чтение. Какой-то господин подошел и любезно осведомился, что я читаю. «Пять историй болезни» Фрейда, – ответила я.
Господин удивился. «Это же так сложно!» – сказал он сочувственно.
«Вовсе нет», – могла бы я заверить собеседника. И в этот момент я осознала, как сильно, на самом деле, увлекло меня чтение, хотя это была всего лишь учебная литература из университетской программы. Но Фрейдовское описание истерии восемнадцатилетней Доры читалось как настоящий детектив, равно как и описание фобий пятилетнего Ганса.
По мере развития психоанализа практически каждый пункт учения Зигмунда Фрейда вызывал споры и подвергался пересмотру. Но есть один момент, по поводу которого согласны даже самые непримиримые критики: Фрейд был писателем высочайшего уровня. В 1930 году он был удостоен литературной премии – престижной премии Гёте.
Мало что способно дать такое хорошее представление о даре рассказчика, которым обладал Фрейд, как его описания историй болезни. Классические работы в этом плане – истории болезни Доры, маленького Ганса, «человека-крысы», Шребера и «человека-волка». Все они вместе представляют собой захватывающее описание человеческих судеб в Вене начала ХХ века.
Каждую историю болезни писатель Фрейд начинает с загадки: патологическая нерешительность и неспособность действовать у в целом весьма умного и образованного человека; таинственные проблемы с дыханием у вполне здоровой женщины. Затем Фрейд превращается в детектива и заглядывает под каждый камень, чтобы найти «место преступления» – точку, в которой началось развитие психоневроза. Самые незначительные детали оказываются важными уликами – как, например, тот факт, что волки в сновидениях «человека-волка» белые. Самые невинные жесты оказываются полны скрытого смысла – как, например, манипуляции Доры с сумочкой во время разговора с Фрейдом.
Наконец мрак рассеивается, загадка разъясняется, неизвестные обстоятельства и взаимосвязи предстают в беспощадном свете истины. Психоаналитик может покинуть свое место возле кушетки пациента и сесть за письменный стол.
Сам Фрейд не хотел, чтобы его считали писателем. Конечно, охочая до сенсаций публика обивала пороги, но истории болезней – это вам не «романы с ключом»! Фрейд подчеркивал: задача врача и ученого отличается от задачи писателя, – что, однако, не мешало ему использовать литературные приемы в своих трудах.
В 1895 году, за пять лет до публикации революционного труда «Толкование сновидений», Фрейд размышлял о своем научном бэкграунде. Так, он писал:
Мне самому странно видеть, что истории болезни, которые я пишу, читаются как новеллы и, так сказать, лишены серьезного отпечатка научности. Мне остается утешать себя лишь тем, что, по-видимому, эти результаты объясняются скорее сущностью предмета, чем моими пристрастиями; местная диагностика и электрические реакции никакого значения для исследования истерии не имеют, между тем как подробное описание душевных процессов, какое привыкли ожидать от поэта, позволяет мне, лишь изредка используя некоторые психологические формулировки, проникать в сущность истерического процесса[88].
Истерия была главным объектом интереса Фрейда, когда, вскоре после издания «Толкования сновидений», он взялся лечить причудливые недуги Доры и ее общую апатию. Случай Доры – единственный «женский» случай среди пяти историй болезни, и, кроме того, это первое «классическое» исследование Фрейда.
Новаторский исходный тезис Фрейда сводился к тому, что истерия не является свойством характера. Истерия – это нечто приобретенное. И даже хорошо, думал Фрейд, что недуги Доры были не более странными, чем чьи-либо еще. Это был прекрасный шанс извлечь универсальную истину из самого обычного случая. Амбициозный план Фрейда заключался в том, чтобы доказать, что истерия имеет органическое происхождение и обусловлена сексуальностью. В конечном счете, истерия – это битва между «я» и половым влечением.
Так что Фрейд был также первым, кто систематически исследовал сложные взаимоотношения между телом и душой, связь между физическими недугами человека и его психическими конфликтами. Всё, что было нужно, – лишь перевести язык