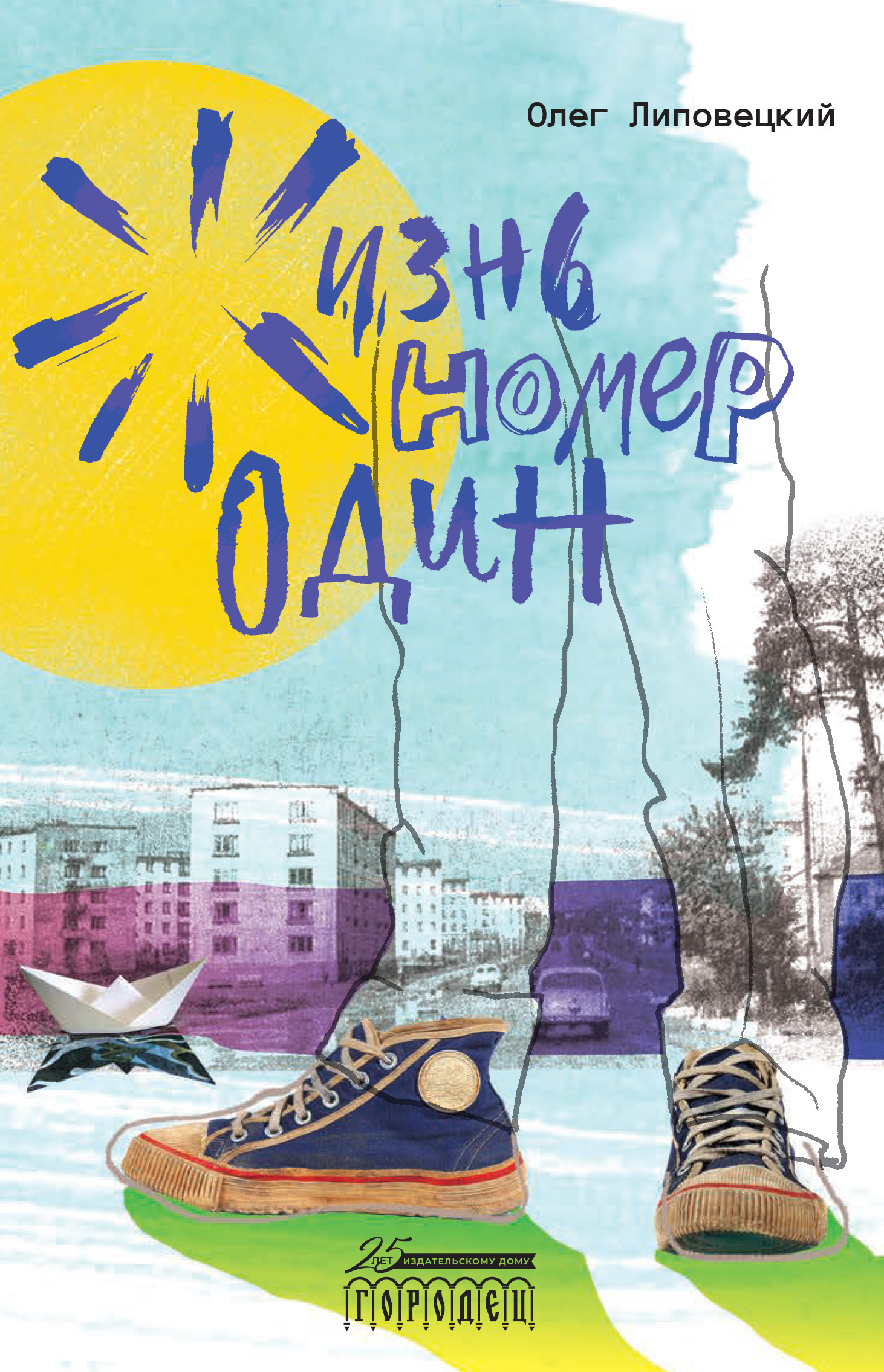ждать подходящего момента. Я думала, что и он этого хочет. Он подарил Эдварду картину с хижиной в лесу, та до сих пор висит у папы в кабинете. Он тысячу раз рисовал меня, в основном — когда я на него не смотрела. Мы даже прикидывали, что, может быть, даже съедемся, когда мой срок аренды жилья подойдет к концу.
Мы страшно напились на фуршете в день открытия выставки миниатюр, а потом еще наелись какой-то стремной дешевой пиццы по пути домой. Блевала я так, что стоило бы принять дополнительную противозачаточную таблетку и быть повнимательнее до конца цикла. Однако после года безуспешной возни с донорской спермой я не то чтобы серьезно следила за таблетками.
Примерно через неделю кто-то из его друзей взял первый приз на выставке миниатюр, и они ушли это дело отпраздновать. Потом он притащил всех в свою квартиру, где я по какой-то причине ночевала, и я как-то резко отреагировала на то, что меня разбудили, а потом еще резче — на то, что еще два часа у них гремела музыка.
С утра он заявил, что я: а) поставила его накануне в неловкое положение, потому что вела себя так, будто квартира моя, хотя я точно себя так не вела и ни за что не стала бы, если уж на то пошло, и б) они с друзьями договорились, что ни в коем случае никто из них не станет заводить детей, если это помешает заниматься творчеством. Я была слишком молода и неопытна, чтобы понимать, когда стоит промолчать, и тем более — что не надо спорить с мужчиной, страдающим от похмелья. В какой-то момент нашей ссоры я напомнила ему, как меня тошнило после той пиццы и что я не приняла дополнительную таблетку, а он заявил, что я коварно завладела его жизнью без его согласия.
К тому времени, когда я сделала первый тест на беременность, мы все еще напряженно ходили друг вокруг друга, каждая улыбка могла в любой момент обернуться слезами, и потому сперва я ничего не сказала. А когда сказала, то вынуждена была также признаться, что знала раньше, но промолчала. Разумеется, подозрения в мой адрес только усилились.
Всю неделю я сидела у себя дома, чтобы показать, что не жду от него немедленного приглашения в совместную жизнь только из-за того, что беременна, — однако он обвинил меня в том, что я свалила, как только получила желаемое. Стоило мне заплакать, как он тут же просил уточнить — это реальные эмоции или гормоны бушуют. Готовясь стать матерью, я стала ненадежной и почти безумной. Именно этого он и боялся.
Так мы кружили вокруг да около еще три месяца, а потом у меня начались кровотечения. И он вздохнул с облегчением. И этого я вынести не смогла. Я не могла вынести то, каким довольным он выглядел. Я уехала домой и там в одиночку проплакала оставшиеся месяцы беременности, перемежающиеся кровотечениями и страхом. То есть я даже не могу его винить в том, что он меня бросил. Я ушла сама.
Может быть, после рождения Сюзанны мы и могли бы снова сойтись, но, когда он приехал навестить свою семидневную дочь, я была не в себе. Сюзанна только-только проснулась, пора было ее кормить, но я просто не могла задрать футболку и вывалить перед ним кровоточащие соски и отечный живот. Я хотела только сунуть дочь ему в руки, принять душ и причесаться. Но она уже проснулась, так что я опоздала.
Я протянула ему Сюзанну, и он сказал: «Она орет, и я не могу разглядеть ее лицо». Ему не нравилось ее имя. Во всяком случае, я боялась, что не нравится. Сам он ничего не сказал. Может, просто не хотел говорить.
Я привычно ощущала положение его тела в пространстве, расстояние между нами, и еще в этом пространстве чувствовалось детское тельце — так явно, будто его контур очерчен красными чернилами. Вдруг в комнате потекли цвета. Потек цвет с его лица, каштановых волос, с его мягкой полосатой рубашки, с его черных джинсов и шерстяных носков с красно-оранжевыми мысками — все это стало бледнеть, тускнеть, а цвет вытекал и собирался в лужу под нашими ногами.
Я чувствовала запах этого цвета — кровь, кошачья шерсть, сырые старые пальто в шкафу. Я боялась, что он опустит взгляд и увидит, как наши цвета впитываются в ковер, почует эту вонь, поймет, что в доме кошки — со всей своей кошачьей заразой, и полузадушенными мышами, и всей этой шерстью, опасной для младенцев.
Мы стояли вдвоем посреди комнаты, смотрели на вопящего младенца, чье имя нравилось только одному из нас, и тут как раз явилась патронажная медсестра. Я видела ее силуэт за дверью. Не та, которая обещала мне принести лекарство от геморроя, а другая — шотландка, которая говорила «микробы», растягивая звук «р», чтобы страшнее звучало.
Я передала дочь Барни и направилась к двери, стараясь ступать осторожно, чтобы не расплескать цвета. Не хотелось испачкать пол. Дойдя до крошечной прихожей, я вдруг увидела, что вокруг моих ног сгрудились кошки. Естественно — я же чувствовала кошачий запах, а теперь они и сами явились.
Теперь я забеспокоилась, что кошки притащили кучу микробов. К тому же Барни ненавидит котов. Если я открою дверь этой страшной медсестре, она увидит кошек и решит, что я плохо справляюсь с материнскими обязанностями. Она и так считала, что я неправильно прикладываю малышку к груди. Я повернулась спиной к двери и попыталась отогнать кошек.
Сюзанна плакала, и от этих звуков молоко текло у меня из груди, заливая живот и собираясь лужицей у резинки домашних штанов. Я все смотрела под ноги, пытаясь избавиться от кошек и сосредоточиться на плитках пола. Красивый узор.
Когда я сюда переехала, Барни купил специальное средство и отчистил плитку до блеска. Цвета засияли: оранжевый и кремовый, и бирюзовые треугольнички. Если сильно сконцентрироваться, я могла разглядеть рисунок даже сквозь кошек. Нечетко, но кошки стали как будто полупрозрачными. Я подумала, что это какой-то фокус. Что, может быть, кошки ненастоящие. Я знала, что настоящие кошки прозрачными не бывают в принципе.
Барни вышел с Сюзанной в прихожую.
— Мне открыть дверь? Чем тебе помочь?
— Прогони кошек, пока она их не заметила.
Он моргнул, напрягся, сглотнул. Так я поняла, что что-то не так. Но он продолжал смотреть мне в глаза.
— Разумно. Давай-ка ты иди покорми эту голодную девочку, а я открою и скажу медсестре, чтобы пришла позже.
— Попроси, чтобы пришла другая. У нее есть лекарства. — Почему-то окончание каждой фразы я произносила шепотом. Он усадил меня в кресло, отдал Сюзанну. У меня по всей футболке расползалось мокрое пятно. Я видела, как он смущенно на него глазеет. А потом я вгляделась в его лицо и обнаружила, что оно стало ярко-оранжевым. Не как краска или загар, а как будто его изнутри подсвечивают оранжевой лампой. Я протянула к нему руку — проверить, не горит ли лицо. Но оно было прохладным.
— Марианна, милая, ты, кажется, приболела.
— Наверное.
— Я скажу медсестре, чтобы она пока ушла. И позвоню Эдварду.
— Барни?
— М?
— Спроси у нее про свое лицо. Она все-таки медик.
— Мое лицо?
— Ну да. Ты же не будешь всю жизнь теперь такой оранжевый ходить.
— А, ну да.
Он вернулся, принес сэндвич, а я переживала, что кошки притащатся вслед за ним, но их не было. Я только чувствовала их запах из прихожей. Наверное, они уже слизали с пола всю красную краску. Было ужасно интересно, что там на полу. Я даже под диван заглянула — проверить, не затекла ли краска еще и туда.
— Тебе получше?
Я не совсем поняла вопрос. Тем более что его задавал человек с оранжевым лицом. Надеюсь, это хотя бы не заразно.
— Пожалуйста, можешь прогнать кошек? Мне тут не нужны кошки. Это негигиенично.
— Я выгоню всех до единой через заднюю дверь.
— Да.
Он сказал это, и я снова подумала, что кошки ненастоящие. Так бывает, когда до тебя вдруг доходит, что