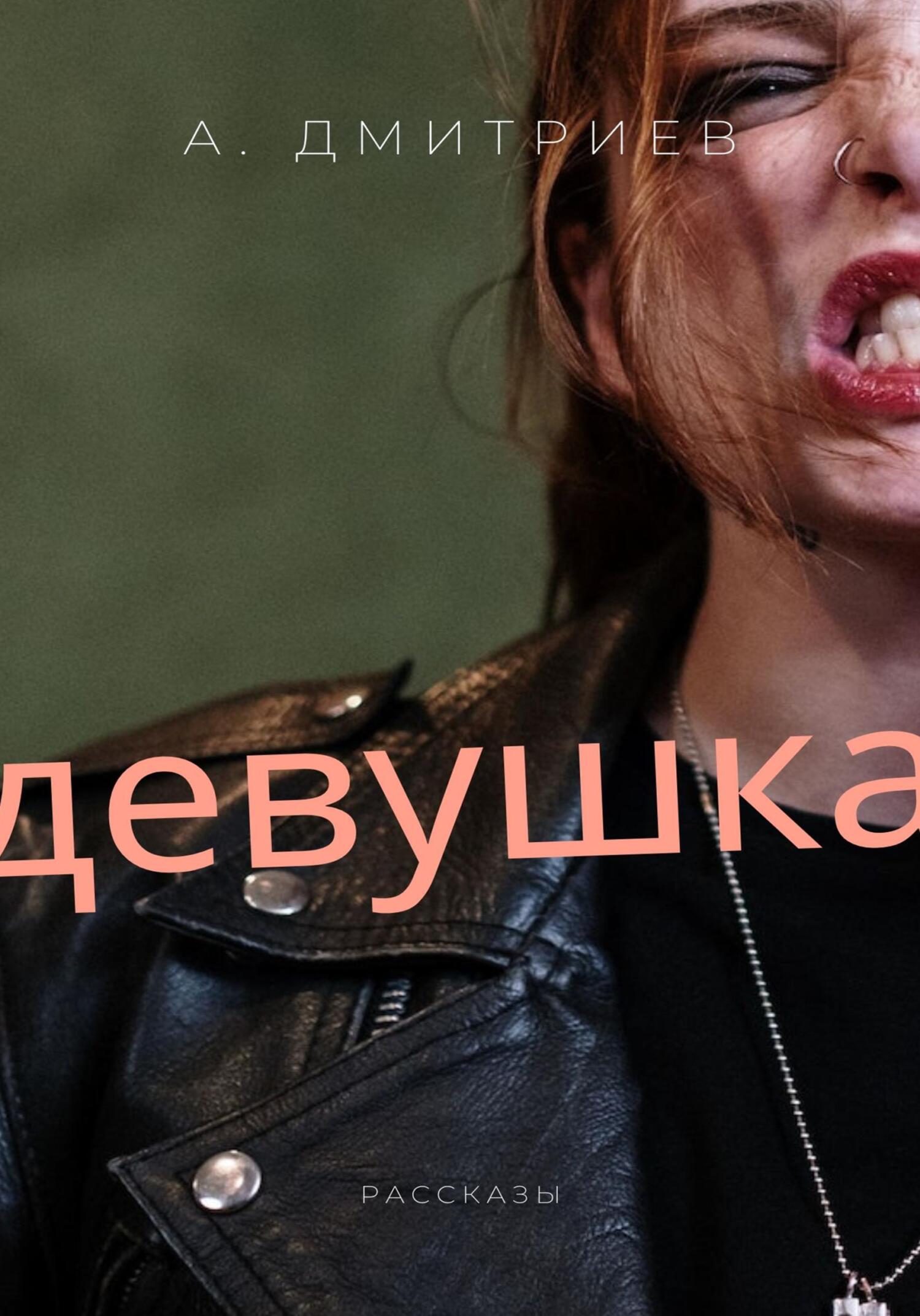снова улыбнулась, на этот раз веселой и долгой, словно несмываемой улыбкой, – и не переставала улыбаться весь путь к Музею.
Кубическое, цвета влажной глины, здание Музея, казалось, плыло по морю сухой, обожженной солнцем сентября травы, и на этом море был полный штиль. Ни одного человека не встретилось на короткой дороге к Музею, и внутри него было почти безлюдно, если не считать немногочисленных, едва заметных, притихших в мягком сумраке сотрудников.
Тихонин посчитал неуместным присутствовать при встрече Марии с директором и остался в залах – хотя, по правде говоря, он предпочел бы подождать ее снаружи, в голом поле. Это Шен Фин любил музеи – Тихонин, мягко говоря, не слишком.
Он бывал счастлив всякий раз, если музей оказывался заперт или же очередь у касс была такой длины, что ее бы не решался выстоять даже и Шен Фин, – и ничего не оставалось, как просто послоняться по живым городским улицам. Тихонин любил улицы, а всего больше – возможность заблудиться в незнакомом городе. Он не терялся, заплутав: сливался с уличной толпой, вверял себя ее потоку или, напротив, доверялся тишине безлюдных переулков и дворов – и никогда не испытывал тревоги.
Его тревожила и мучила толпа в залах мировых художественных музеев – но и угнетала тишина музеев исторических, особенно военных. Страшило умершее прошлое – то прошлое, что не в рассказах или памятных символах, но в осязаемых своих и зримых оболочках. Словно пустой хитин усохших насекомых, они будили в нем брезгливую тоску.
«Меня страшит сам страх, – признавался нам Тихонин, – и ладно бы перед костями или мумиями, но и перед напяленными на манекены пробитыми кольчугами, промятыми доспехами, которые кого-то и когда-то не спасли; страх перед ржавыми мечами, топорами, наконечниками копий, продырявленными касками и иной былой броней, чья ржавчина мне видится запекшейся навеки кровью».
Один из нас, психолог по своему второму образованию, уверенно предположил, что причиной этих страхов стал брошенный портновский манекен, когда-то напугавший Тихонина-подростка в пытавинской ночи, в пустом и выпотрошенном, готовом к сносу доме. Тихонин с этим сразу согласился – может быть, искренне, а может, только для того, чтобы закончить неприятный разговор.
…Слоняясь в долгом ожидании Марии по Музею Трои, он удивился сам себе: мягкий светлый сумрак, конечно же продуманный Омером Сельчук Базом[3], не угнетал его ничуть, располагал к умудренной успокоенности, достойной безмятежности и приязни к жизни. Резцы и топоры в витринах не вынуждали думать о боях и смерти, но приглашали вспомнить о вдохновении и мастерстве тех, кто выковал резцы и топоры, кто их выправил и, прихотливо украшая, с осмотрительной любовью довел до совершенства. Прошлое Трои осталось в такой дали, что уже не умершим казалось, но вымышленным, и этот мнимый вымысел был хорош своей неоспоримой правдой, явленной в вещах… Тихонин был особенно взволнован и даже тронут хрупкими стеклянными сосудами, всеми этими флакончиками и слезницами, казалось, обреченными уже давно рассыпаться в песок и в пыль – а они даже не потрескались. Ломкие и вместе с тем упругие линии букв на резных камнях заслуживали зависти любого каллиграфа, но то была зависть приобщения – и Тихонин упивался этой завистью, как если б он завидовал самому себе, еще не свершившемуся, но хоть в чем-то обещающему совершенство… На бесформенных обломках, осколках, черепках Тихонин не задерживал внимания, но те прекрасные вещицы, которые прекрасно сохранились с незапамятных времен, пусть даже попечением современных реставраторов, наполняли его душу не одним лишь любованием, но и надеждой на радостное будущее, как это ни странно… Он начинал догадываться, что переполнен был надеждой еще задолго до того, как окунулся в светлый сумрак Музея Трои, и даже до того, как встретил Марию в новом аэропорту Стамбула, но, пожалуй, с того дня, как от нее пришло письмо с признанием… Он не успел додумать до конца догадку о своей надежде: из-за саркофага Поликсены вдруг воровато выглянуло и глянуло ему в глаза детское лицо. Глянуло и тут же снова спряталось за саркофагом. Почти сразу за спиной Тихонина раздался перестук быстрых шагов; он уж решил: Мария, но, обернувшись, увидел не ее. Совсем другая женщина, обойдя Тихонина так быстро, что он не успел ее разглядеть, вытащила из-за саркофага ребенка лет семи и потащила его к выходу из зала. Тихонин проводил ребенка взглядом, чтобы понять: это мальчик или девочка – волосы ребенка были слишком длинны, но одет он был, скорее, мальчиком… Перед выходом женщина остановилась, обернулась и спросила по-русски:
– Думаете, ангел?.. По мне, так сущий бес; у меня никаких нервов не хватает.
Русская женщина и ее маленький бес вышли из зала; перестук шагов скоро стих; послышались иные, мягкие шаги, и в зал вошла Мария.
– Ты долго, – сказал Тихонин, взяв ее за руку. – Похоже, было о чем поговорить?
– С кем? – словно бы не поняла Мария.
– С директором, конечно. Или там был кто-нибудь еще?
– Нет, никого, – сказала нехотя Мария и отняла руку. – Вообще никого, кроме секретарши. Рыдвана нет на месте; он уехал по делам в Чанаккале… Секретарша предложила подождать, и я ждала; но сколько можно ждать?.. Оставила ей книгу; она обещала положить ему на стол, на самое видное место, но я все же попросила передать ее Рыдвану из рук в руки, как вернется… С моими нужными словами; как иначе?
– Рыдван – это директор, как я понял? И ты с ним знакома, как я понимаю?
– Можно сказать и так, а можно и нет, – пожала плечами Мария. – Мы были представлены друг другу на какой-то конференции, не помню…
Тихонин подсказал:
– Допустим, в Бремене.
– Вполне возможно.
– Ты расстроена?
– Уже нет…
– Мы можем подождать его еще.
– Не стоит. Ни к чему, – Мария попыталась скрыть досаду.
– Нам спешить некуда, – сказал Тихонин и напомнил мягко: – Мы для того приехали сюда, чтобы ты могла его увидеть.
– Напрасно ты мне это говоришь, – уже не скрывая раздражения, отозвалась Мария. – А я-то думала, мы сюда приехали, чтобы вместе увидеть Трою! Рыдван лишь повод… Не срослось так не срослось. Идем отсюда, мне здесь душно…
– Даже не посмотришь, что это за Музей? – изобразил удивление Тихонин.
Мария попыталась улыбнуться:
– Ты прав… Окинем взором.
Бродя по залам, она быстро их оглядывала, ни к чему толком не приглядываясь, словно бы из вежливости. Тихонин счел за лучшее держаться от нее поодаль – и оказался в зале, посвященном копателям Трои. Узнал Шлимана, его жену Софию в золотых троянских украшениях. Эти фотографии были ему знакомы, и, глянув на них вскользь, он задержал свой взгляд на групповом, сильно увеличенном снимке из отдаленного, судя по костюмам и очкам людей, но не слишком далекого прошлого.
Неслышно подошла Мария, встала за его плечом, и Тихонин вновь услышал ее голос, уже успевший подобреть:
– Мартин Корфман и его команда… Где-то здесь и Карл Блеген, он точно должен быть.
Тихонин вдруг поймал себя на нелепом опасении. Он промолчал, но Мария угадала и устало рассмеялась:
– Нет, милый; Фила с ними быть не может. Он никогда не копал Трою.
Недолго посидев в музейном кафетерии, они вышли в поле, вернулись на дорогу и отправились пешком к холму Гиссарлык. По словам Урана, идти им было не дольше километра, и они не торопились. Недвижные, как на акварели, запыленные чинары и акации по краям дороги,