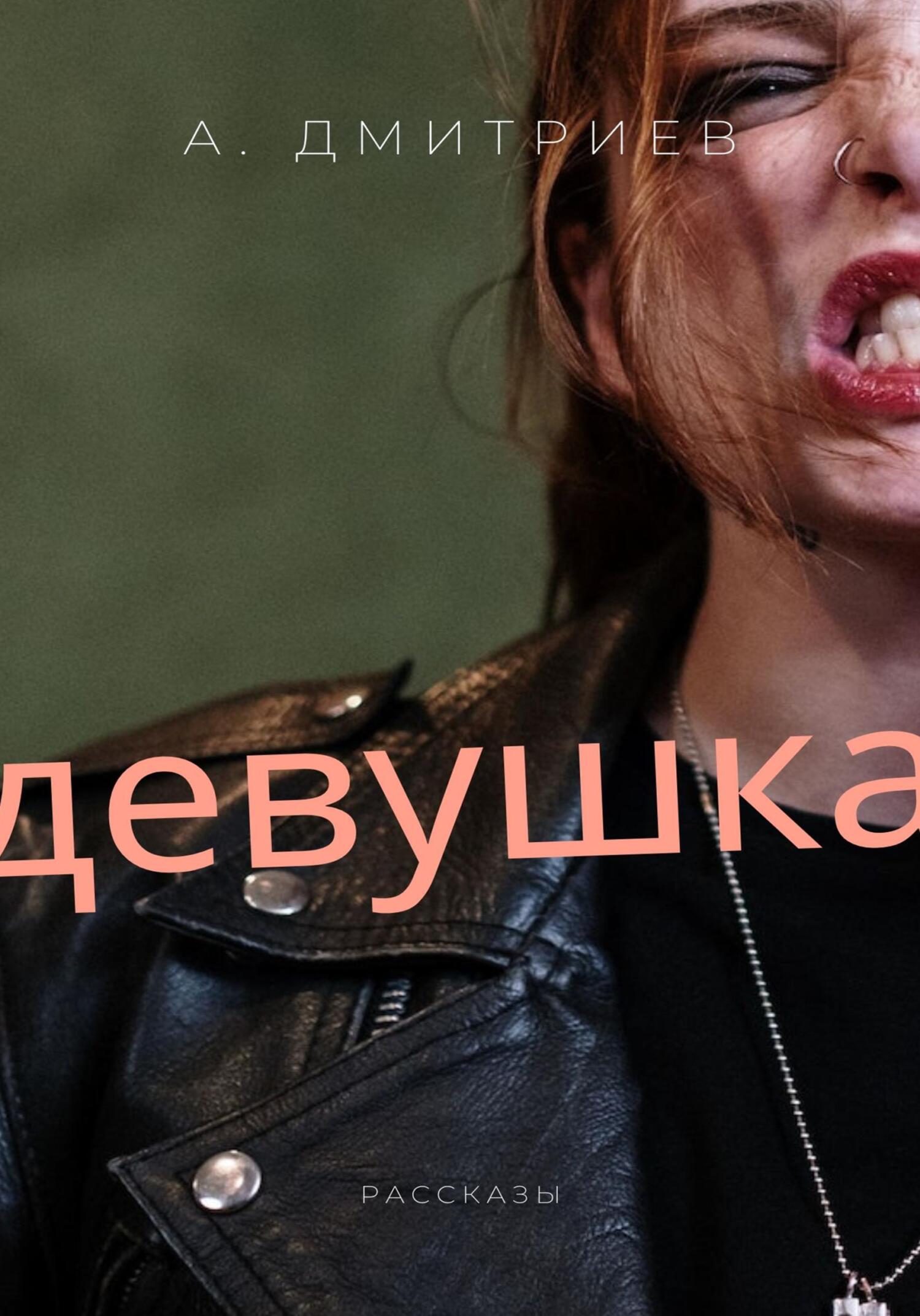планы?
– Сегодня – Дарданеллы: когда стемнеет, будем в Галлиполи, оттуда – в Эджеабат; там – паро́м до Чанаккале, последний, но мы должны успеть. А дальше нас ждет Троя – уже довольно долго ждет, немногим меньше трех тысячелетий.
Мария обернулась наконец:
– Я не о том, что сегодня и сейчас. Я про то, что пока еще в мечтах… Что нас ждет на Корфу?
– Как прилетим, возьмем такси…
– Уже скучно. Но продолжай.
– …там ехать до дому – минут пятнадцать. К нашему дому, хочу напомнить… Дома побросаем вещи, поохаем, поахаем и сразу же отправимся на рыбный рынок и по продуктовым лавкам – устроим пир по случаю начала новой жизни…
– Все это прекрасные, нелишние подробности, – перебила Мария. – Но как она будет складываться, эта новая жизнь, пока не обживемся и не свыкнемся?.. У тебя есть планы в голове, кроме охов, ахов и пиров?
– Обживемся – значит будем обживаться, а это в нашем случае азартное занятие. В этом я уверен. И мы будем не на привязи. Есть дела и не в Керкире… Скоро я должен быть в Стамбуле, на суде. Надеюсь, мне вернут права, и обойдемся штрафом.
– Ты в этом убежден?
– Рассчитываю на понимание. Судье в этом помогут, я догадываюсь. Стамбул не без добрых людей, почти все они друг друга знают, а я знаю их всех… По осени хотелось бы оказаться в Киеве. Дел там особых нет, но там недавно вышла книжка, она очень мне нужна, я как о ней подумаю – места себе не нахожу. Она о каллиграфии, точнее, о шрифтах.
– Давно бы заказал по интернету…
– Да, но мне хотелось бы увидеть автора, взять у него несколько уроков. Если, конечно, этот Митченко на них согласится. И если Киев не закупорят из-за пандемии… Потом мне надо быть в Китае – намечается там с ними одно дельце. Тема не тема, проект не проект, но дельце, которое, возможно, станет темой и проектом, если, конечно, Китай когда-нибудь откроют: пока что там закупорено в ноль.
– Не запутывай меня. Скажи: ты – снова в Стамбул, потом вернешься в дом…
– В наш дом.
– …потом ты – в Киев, по вопросам каллиграфии, потом еще в Пекин и… или ты – в Шанхай?
– Нет, не в Пекин. В Чаншу, – мягко поправил Тихонин и напомнил: – Если Китай откроют. Но что означает твое угрюмое «ты»?.. Прости, я не могу понять.
– Не понимаю, что тут понимать, – с досадой отозвалась Мария. – Ты – туда, ты – сюда, даже в Китай, потом еще куда – а я сиди себе на Корфу, броди по Керкире, не зная языка и никого на этом острове не зная, покупай себе одной рыбку, тыча в нее пальцем на прилавке, потому что я еще не знаю всех названий этих рыбок… Что мне одной делать в наших, прости, апартаментах, где даже мебель, как ты сам мне намекнул однажды, пока что оскорбляет глаз? Упиваться видом из окна? Пялиться в телевизор, пока ты там обделываешь за дельцем дельце?..
– Не ты, а мы, – сказал Тихонин, как мог, ласково. – Повсюду, в целом мире – мы… Разве тебя со мной не будет на суде? Разве не будет в Киеве? В Чаншу?.. Да хоть бы и в Шанхае!
Мария молчала. Потом коснулась его руки, сжавшей руль:
– Наверное, я устала. Никак не отойду от перелета… От переворота жизни. От нервов, разных мыслей, а нервно думать, как я уже начинаю думать, – это не женское дело… Устала от всего, прости.
Прошел еще час; вспыхнули фары. Дорога, сузившись в яркую струю, всасывалась под колеса. Холмы вдали, исчезая в полумраке, уже казались плоскими. Деревья по обочинам рябили с изнурительной быстротой…
– Не гони так, иначе точно остановят, – сказала наконец Мария, и Тихонин, не переча, сбросил скорость. Виновато пояснил:
– Рецидив профессиональной болезни. В Узбекистане всякий раз, когда я возвращался с аэродрома в своем уазике, мне после дня полетов над полями казалось, что машина едет слишком медленно; я давал газу, и меня там всякий раз тормозили гаишники… Потом поверили, привыкли и перестали тормозить…
– Но как же Тузла, из-за которой тебя ждет суд? Как же удиралово со мной на мотоцикле, когда ты уронил нас в пашню? Не было тогда еще полетов над полями!..
– Да, тут другое, – убежденно согласился Тихонин. – Неясная врожденная склонность к бегству, я бы так сказал… Мне иногда кажется, – добавил он чуть позже, – что моя жизнь – сплошной побег по кругу.
– И от меня ты убежишь, – с неожиданной уверенностью заметила Мария. Подумала немного и сказала: – Ну, если по кругу – это не смертельно. Сбежишь и, сделав круг, опять меня догонишь. – Она еще немного помолчала. – Если на этот раз у тебя на этот полный круг достанет времени.
– Я от тебя не убегал, – осторожно напомнил ей Тихонин, и Мария, вдруг развеселившись, заявила, что готова снова сесть за руль. И они поменялись местами…
Мчится «меган» с включенными фарами по вечерней трассе подобно быстрому катеру по лунной дорожке в сумраке моря: огнями судов на рейде мигают окна домов вдоль дороги, тени гор и холмов понемногу тают вдали; молчит за рулем Мария, молчит и Тихонин: глядеть по сторонам ей некогда, ему – не на что, и оттого они оба глядят в себя, в молчании прикидывая, поделиться вслух увиденным в себе или погодить пока… Пока они молчат и не делятся, отдохнем от них. Отвлечемся на Шен Фина: Тихонин это бы одобрил.
…Он говорил нам, что однажды после того, как они спели для себя дуэтом хор евреев из «Набукко» и потом счастливо молчали, провожая в глубину души смолкнувшие звуки, Шен Фин затеял разговор о разных типах хора – он уточнил: о разных способах собраться в хор и в нем сосуществовать… Тихонин нам признался, что не сразу понял: речь шла не о командах вокалистов, но о человеческом сообществе вообще. И этих способов собраться и сосуществовать, как заявил Шен Фин, всего-то два: базар и гетто. Вне гетто, вне базара люди не нужны друг другу в больших количествах. Не будь гетто и базара, им было бы вполне довольно самих себя, еще семьи, уж если без нее никак, двух-трех друзей, двух-трех врагов… Но так ведь не бывает или бывает слишком редко. Почти всем людям нужны почти все люди, и, чтобы быть со всеми, к кому неплохо б прислониться или кого хотелось бы сбить в кучу, выбирать приходится из двух единственно возможных сборищ – это базар и гетто.
«Я сказал ему на это, – заметил нам Тихонин, – что не могу себе представить никого, кто бы в своем уме и по своей воле выбрал гетто».
«Я понимаю, что ты вообразил, когда сейчас зажмурился от ужаса, – примерно так ответил мне Шен Фин, – и я нарочно, я для пущей убедительности выбрал это слово, гетто: чтобы ты зажмурился, чтобы ты вообразил – а потом открыл глаза и огляделся бы, и новыми глазами вдруг увидел бы вокруг себя кучу средоточий скученной жизни в строго отмеренных пространствах, под охраной, по жестким недвусмысленным правилам общежития и с неукоснительным распределением ролей, обязанностей, привилегий и запретов… Да, это всего чаще не то адовое гетто, которое ты себе представил, когда закрыл глаза, – тут и любой на твоем месте зажмурится от страха и тоски – но по сути то же гетто, пусть и с иной степенью удобств, если об удобствах