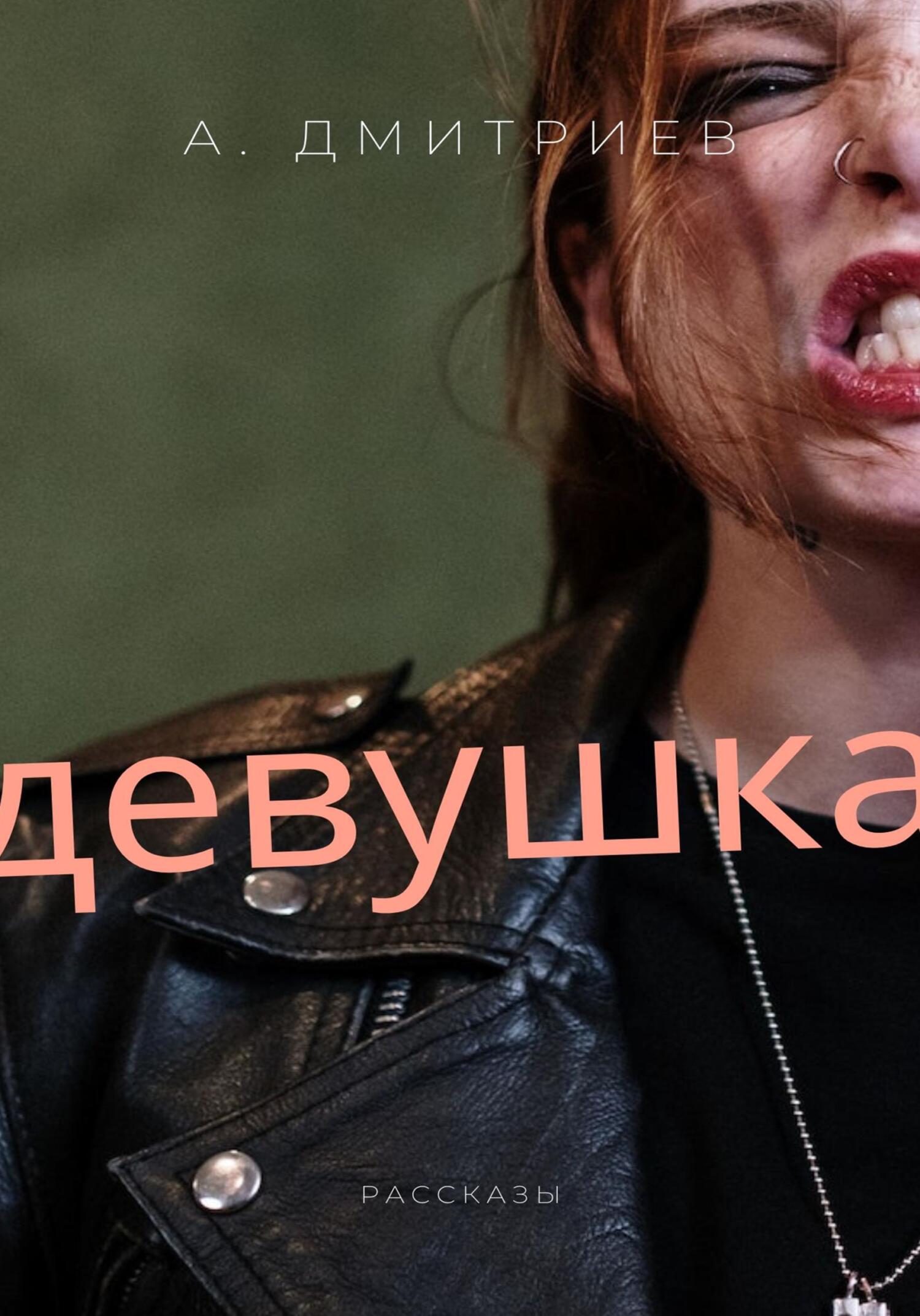тоже долго в Штатах.
– Что он там у вас поделывает?
– То же, что и все пенсионеры у них в Вайоминге: ловит рыбу и охотится. По выходным сидит в шезлонге на краю хайвэя, пьет пиво и глядит на автомобили.
– Почти как мы сегодня.
– Нет, он там один. Издает себе журнал «Оклик кривича». В который пишет сам – и сам его читает…
– При чем тут кривичи? – спросил Тихонин.
– Не знаю, – ответила Мария. – Племя такое, не путать с апачами… Я думаю, все это, эти кривичи – его тоска по Новопечи и, может быть, совсем немного – по Пытавину.
– Рифмами радует по-прежнему?
Мария подтвердила:
– Да, нередко, – и скрипуче, будто подражая, отчеканила:
– Уйдет:
Бог
И Время.
Грядет:
Род
И Племя.
– Поищи, пожалуйста, музыку, – попросил ее Тихонин, и подходящая обоим музыка нашлась.
За окном тянулись и клубились бесконечные ряды гранатовых деревьев на придорожных склонах, привораживая взгляд тяжелой медью плодов, обметанных на солнце серебристой патиной.
– Расскажи мне, – попросил Тихонин на исходе дня, наскучив вялым молчанием и устав прятать глаза от ослепительного солнца, что уже час как висло впереди над горизонтом. – Расскажи, что ты поделывала, пока меня не было рядом.
Не торопясь с ответом, Мария ушла в правый ряд, сбросила скорость и остановила машину на краю сжатого сухого поля.
– Что-то не так? – с беспокойством спросил Тихонин.
– Спина, – ответила Мария, осторожно выпрямилась и прислушалась с себе. – Что я поделывала, говоришь? Спасалась как могла от остеохондроза. Не всю жизнь, но с некоторых пор. Поэтому старалась избегать поездок за рулем дальше магазина или, на худой конец, Де-Мойна.
– Прости, – только и сказал Тихонин.
– Ты это из вежливости – или ты страдаешь от чувства вины?
Тихонин потерянно молчал.
– Страдай, – она погладила его теплой ладонью по щеке. – И потерпи, сейчас пройдет. Мне только надо походить немного.
Она открыла дверцу и опасливо ступила на асфальт. Вышел и Тихонин. Ветер ударил в лица, его горячий гул шел с гор. По асфальту пролетали, шипя и шелестя, редкие автомобили. С грохотом и скрипом проехали гуськом три небыстрых трактора с открытыми прицепами, доверху нагруженными спелыми красными перцами… Мария скованно прохаживалась вдоль обочины, вминая костяшки пальцев себе в шею, и громко рассказывала, на Тихонина не глядя, будто бы и не ему:
– Что я поделывала, что я поделывала… Удивлялась каждый день самой себе. Я, с детства грезившая только лишь о бегстве: от матери, от всех, к кому привыкла, и от всего, к чему успела притерпеться, и каждым бредом бредившая только о движении, только о дороге все равно куда, о нетерпении увидеть, что там, за поворотом – за этим, тем; за следующим; за другим, причем на каждом новом повороте заряжаясь новым жутким нетерпением, – вот как я умудрилась превратиться в нечто вроде таксы на коротком поводке в намертво обжитом жилье, на неподвижном островке в океанах кукурузы?.. Ты мне скажешь: а хайвэй? куда-то он ведет оттуда, хоть в ту сторону, хоть в эту?.. А я тебе скажу: а что хайвэй? я знаю наизусть, куда ведет хайвэй, причем в любую сторону. И нетерпение на нем одно: доехать поскорее куда едешь – пока ты не уснула за рулем или пока тебе не прихватило спину.
Она оставила в покое свою больную шею, облокотилась на капот машины и уже негромко, деловито продолжила свой рассказ, глядя в поля, где разбрелись, опустив головы и не замечая одна другую, одинокие белые птицы:
– Тихоня, мне всегда было чем заняться, и спасибо тебе уже за то, что ты помог мне вспомнить, какая это радость – совершенно свободное время… Понятно: дом, семья – они само собой, и тебе неинтересно; может даже, неприятно…
– Археология, – напомнил ей Тихонин.
– Она была. Покуда Фил был assistant professor, сперва в одном, потом в другом университете, то есть целых двенадцать лет, – он то и дело вывозил студентов в поле, и я была при нем. Не ученым-археологом, конечно: до диплома я не доучилась… Копала, мыла, паковала образцы – я даже поваром бывала. В Иордании, потом в Ираке, между Тигром и Евфратом, и в сирийском Заевфратье, если можно так сказать, – единственное русское слово, которое Фил любит повторять, причем несуществующее: это я его придумала. Всё это было, пока Фил не набрел в мыслях на свою Трою и этим очень многих напугал… Ему б найти ее вживую, чтобы сердце успокоилось, но tenure он не получил, и его уже не брали никуда – зато повезло с Айовой: простой скромный колледж, ему там очень хорошо. По крайней мере, школьники слушают его внимательно, не подкалывают никогда и по-человечески к нему относятся. Не будем забывать, что этим школьникам принадлежит будущее, и кто-нибудь из них однажды всё поставит на свои места, и с Филом, наконец, придется всем считаться…
– Так говорит Фил, – не удержался и закончил за нее Тихонин.
– Не говорит, – поправила Мария, – но думает и верит. Я тоже в это верю, но моя археология закончилась… Я думаю, мы можем ехать.
Дорога улетала; время шло; Тихонин на дорогу почти и не глядел, но с виноватой жалостью поглядывал все чаще на Марию: она вцепилась в руль от боли… Когда настали сумерки, он предложил ей поменяться местами. Мария собиралась возразить, но не сумела – и теперь уже лишенный прав Тихонин вел машину
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
– Ты мне рассказывай, рассказывай; не позволяй уснуть, – попросил он, мало-помалу убаюканный постаныванием Леонарда Коэна в радиодинамиках, молчанием и дорогой; подсказал: – Археология твоя закончилась, но твое время свободнее не стало, если я верно понял…
– Да-да, мне было чем его заполнить, – отозвалась Мария. – В Америке я обнаружила, причем не сразу, что у меня проблемы с эмпатией.
– О!..
– Представь себе!.. Я поняла, откуда они у меня: из нашего Пытавина, как ты и сам мог догадаться. Тогда я так себя жалела, что было некогда жалеть еще кого-то; у меня не было такой привычки, я жила себе и обходилась без нее, но в Айове так жить нельзя. Сочувствие там – это образ жизни, принятый даже у бесчувственных. Хочешь быть своей среди своих – сострадай кому-нибудь, найди такого, или хотя бы помогай кому-то…
– Ты занялась благотворительностью, – угадал Тихонин.
– Конечно, как и все, но это не было решением моей проблемы. Благотворительные взносы в любом виде – это налог, но не порыв, идущий от души… У меня однажды был порыв, могу похвастать. Не в Айове, а далеко – в Европе, в Бремене. О Филе в кои веки вспомнили, позвали туда выступить с докладом; я была там с ним. На доклад не пошла: я его знала наизусть – и предпочла пройтись по городу… Скоро было Рождество. Аттракционы, аукционы, распродажи, очереди за подарками… и вот на площади, в самом центре города, гляжу: два одинаковых шатра, к обоим – две одинаковые очереди опрятных, праздничных людей… Встала в одну, мне было любопытно, и я выстояла и вошла в шатер, как оказалось, чтобы сделать взнос в пользу бедных и голодных. И знаешь, я тогда в себе услышала этот всеобщий рождественский порыв. Радостно внесла сколько-то там марок – евро не ввели еще – и вышла из шатра гордая. И с этим чувством гордой сопричастности, чтобы его не расплескать, не выронить, но усугубить – встала и в другую очередь, к соседнему шатру, и выстояла на холоде, вошла, а там – скамейка, стол, кастрюля булькает, и всякому входящему наливают в миску из кастрюли. И мне налили, дали хлеб; мне ничего не оставалось, как поблагодарить за этот суп с морковкой и съесть его – и съела: как