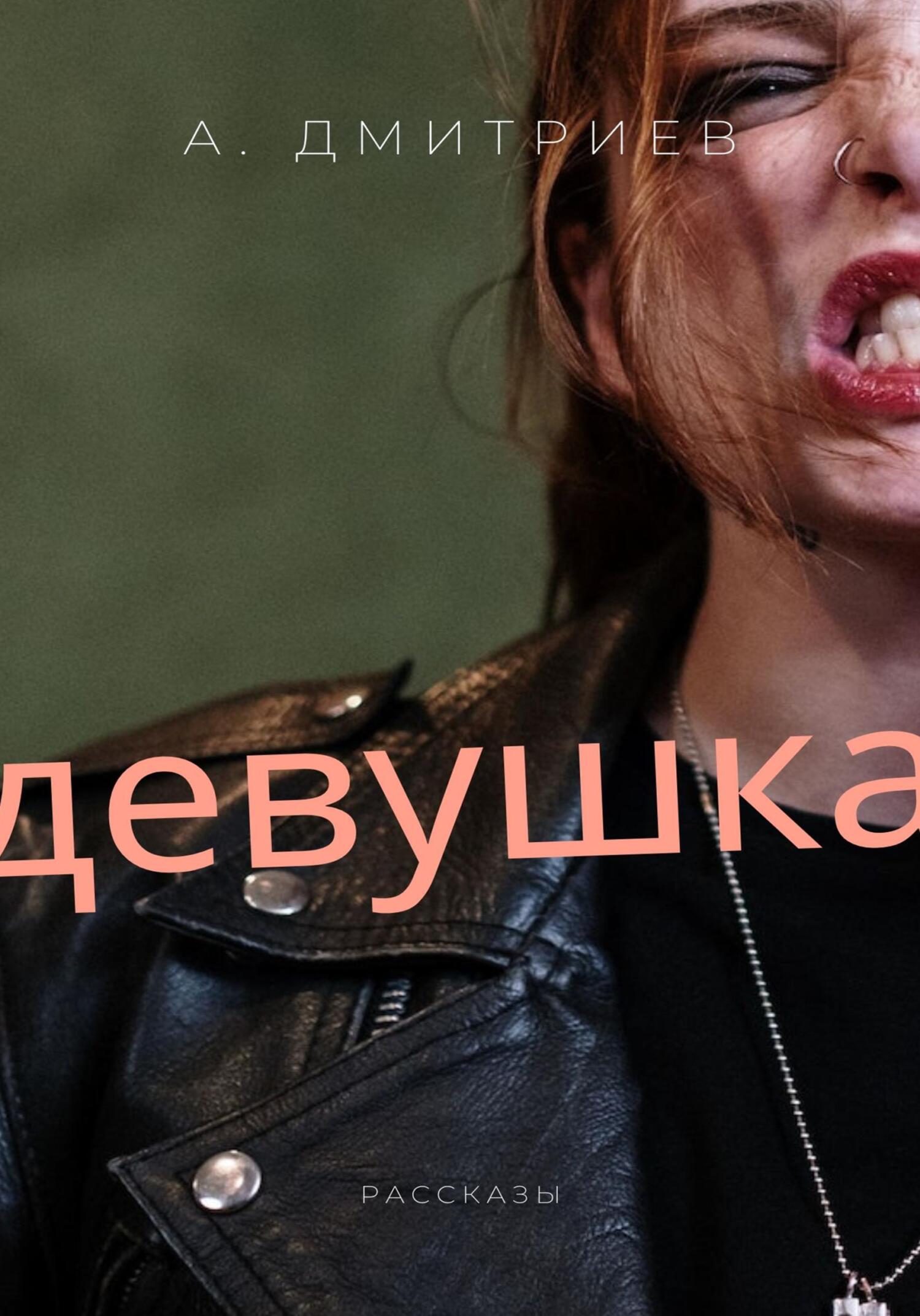class="p1">– Он больше не летает? – спросил Тихони.
– В других мирах, – ответила Мария, посмотрев на него с изумлением. – Ты хоть представляешь, сколько ему?.. Его давно списали, и он затосковал. Я звала его к себе и забрала бы, но он надеялся себя найти. Где-то преподавал, с кем-то занимался ветеранскими делами, но ни с кем не уживался: он же горец! Со всеми вздорил, сжег себе здоровье, репортажи из Алеппо его добили. – Она поправила перед собой зеркальце заднего вида и деловито попросила: – И хватит отвлекать меня на грустное: я все-таки веду машину. Помолчим теперь.
Итак, они надолго замолчали, то есть освоились в пути, свыклись с дорогой и друг другом и не нуждались больше в том, чтобы поддерживать непрерывный разговор, – вот пусть себе и едут, и помалкивают; мы их потом догоним.
Стоял сентябрь двадцатого года, и это было время масок – их запасы до сих пор хранятся у самых бережливых и предусмотрительных из нас… Мы поснимали их зимой двадцать второго, когда, шагнув куда не зная, оказались в ином времени, настолько круто и кроваво взбитом, что пандемия стала неуместной и сама собой прошла, с чем мы молча согласились и о чем сам вирус, возможно, даже не догадывается. И похоже, скоро маски можно будет встретить разве лишь на одиноких стариках в толпе, из тех, что уже не доверяют собственному иммунитету.
Но вернемся в год двадцатый… Если у людей бывает счастье, то самыми счастливыми из них в ту пору были производители и поставщики нетканых тряпичных масок: их продукцию обязан был приобретать и неукоснительно использовать весь мир. И мы не знаем, почему Тихонин, человек множества удавшихся попыток, даже не пытался вступить в эту золотую реку – а ведь его, по слухам, звали. Сам он утверждал разное. То, по его словам, с ним сыграло злую шутку слишком уж живое воображение: «Я лишь представлю себе, как Шен Фин, будь он среди нас, с его несчастными больными легкими хрипит и задыхается под маской, так тут же сам под маской начинаю задыхаться», то – испугала тягомотина и скука: не привык Тихонин отдаваться делу монотонному, надежному, которое к тому же он не сам придумал и затеял… Может быть, оно и так, но, скорей всего, Тихонин по своему обыкновению предпочел остаться в стороне от общего большого дела, дабы оставить за собой свободу выбора и маневра. И, может быть, об этом он рассказывал Марии в кафе при автозаправке на шоссе Стамбул – Чанаккале.
…Мы их догнали, опоздав к началу разговора, но отчего бы не предположить: Мария, намолчавшись за рулем, продолжила весело делиться впечатлениями от своей первой в жизни прогулки по Стамбулу; припомнила со смехом грозные окрики стамбульских полицейских, уличных торговцев, даже иногда простых прохожих – с их требованием немедленно надвинуть маску с подбородка на нос; и разговор ее с Тихониным на автозаправке сам собой перешел на маски, как и большинство тогдашних разговоров в мире, ведь недаром это было время масок.
…Время за полдень. Тихонин и Мария ждут, когда остынут суженные в талии стаканчики с турецким черным чаем, глядят подолгу на автомобили, пролетающие мимо с нытьем и стоном, украдкой – друг на друга: Тихонин то и дело отводит взгляд от ее еще не безнадежных складок кожи над ключицами, Мария – от его уже заметно выдающегося второго подбородка и невообразимо медной седины – тоже боясь обидеть взглядом.
С ужасным самоупоенным громом проносятся по трассе три тяжелых мотоцикла, и все стихает ненадолго. Тихонин и Мария попивают чай за столиком, прижатом к узкой, низкой каменной террасе, на которой в ряд и вперемешку растут герань и некое подобие гороха; в горохе дремлет кот. По ту сторону террасы, в виду бурых гор и серых скал, вздыхает всеми иглами под жарким и нешумным ветром высокая сосна; над горохом и геранью распластала жестяные листья коротенькая пальма с жесткой шкурой. От заправочной площадки столик отгорожен стеной кустарника с объемными, как фонари, яркими цветами…
– Олеандры, – уверенно предполагает Мария.
– Бугенвиллеи, – не менее уверенно поправляет ее Тихонин и тут же оговаривается, соглашаясь: – Может быть, и олеандры, это как ты хочешь, – но и сообщает между прочим, что высокая сосна по ту сторону террасы зовется калабрийской… – А вот об этой пальме – ничего не могу сказать; не знаю я, что это за пальма.
– Не пальма – юкка, – говорит Мария, – она у нас растет. Не в Айове, конечно, – в южных штатах. В Айове у нас – ни пальм, ни юкки.
– Да, там у вас дубы и клены, – соглашается Тихонин прежде, чем признаться: – Я видел их; я там у вас был.
…По шоссе тягуче прогудела вереница длинных темных фур; их догнала шатенка за рулем лимонного спортивного кабриолета – хотела было пуститься на обгон, уже решила, но и не решилась: пристроилась в хвосте колонны, и вскоре вновь настала минута тишины… Из-за шпалеры олеандров – или бугенвиллей – появился хмурый служащий автозаправки; Тихонин расплатился с ним за чай и за бензин и продолжил развлекать Марию рассказом о своем коротком пребывании в округе Аппанус – или Мэдисон? – штат Айова: о том, как простоял полдня в тени дубов и клена на ветру, под осыпью осенних листьев, прямо напротив ее дома, – так и ушел ни с чем, все ж догадавшись выведать ее почтовый электронный адрес у кассиров тамошнего молла…
– Так вот кто приходил по мою душу! – произнесла Мария с угрюмым облегчением, когда Тихонин кончил свой рассказ. – В молле меня предупредили, и мы гадали – кто: Эф Би Ай, полиция или секьюрити страховой компании – у нас были проблемы со страховкой… Но зачем, мы думали? Им всем известен мой мейл! – она вдруг рассмеялась, будто очнувшись: – Я все-таки никак не понимаю, почему ты не зашел…
– Я не уверен и сейчас, что это был твой дом, – ответил ей Тихонин. – И я не знал, как мне себя представить незнакомым людям, как объяснить им, что мне нужно, – я и себе тогда не смог бы толком объяснить, что мне было нужно…
– Но ты же мог спросить кого угодно обо мне, не заходя в дома.
Тихонин с грустью покачал головой:
– У вас там слишком пусто, слишком тихо. Слишком там мертво весь день… К вечеру люди стали появляться, но всем им точно было бы не до меня. Велосипед проехал слишком быстро, с фонарями в спицах, их я помню очень хорошо… Еще старуха, завитая, в розовых завитках, в трусах для баскетбола – шла она не быстро, но была слишком занята своими таксами на поводках; у нее их целых три…
– Как раз старуху, розовую, ты бы мог легко спросить. Она б тебя узнала. Это Тамара, моя мать, и это ее таксы, ровно три: Ося, Лиля, Вова – так она их зовет, а я никак их не зову, я их все время путаю.
…Они мчались в арендованном «рено» дальше на запад, к Дарданеллам, когда обескураженный Тихонин наконец проговорил:
– Я как-то был в Пытавине, искал ее, чтобы спросить о тебе, – и никаких ее следов…
– Да, нам пришлось ее забрать, – ответила Мария.
Тихонин помолчал, припоминая, потом сказал:
– Мне говорили: ей помог продать квартиру один заботливый мужик. Я подумал, это был Владлен Васильевич: помог разделаться с квартирой и увез в свой Новопечь.
– Нет, – ответила Мария, – это был Фил. Он ее забрал. Я оставалась в Айове, с детьми… Владлен – у нас. Не с нами то есть, но он