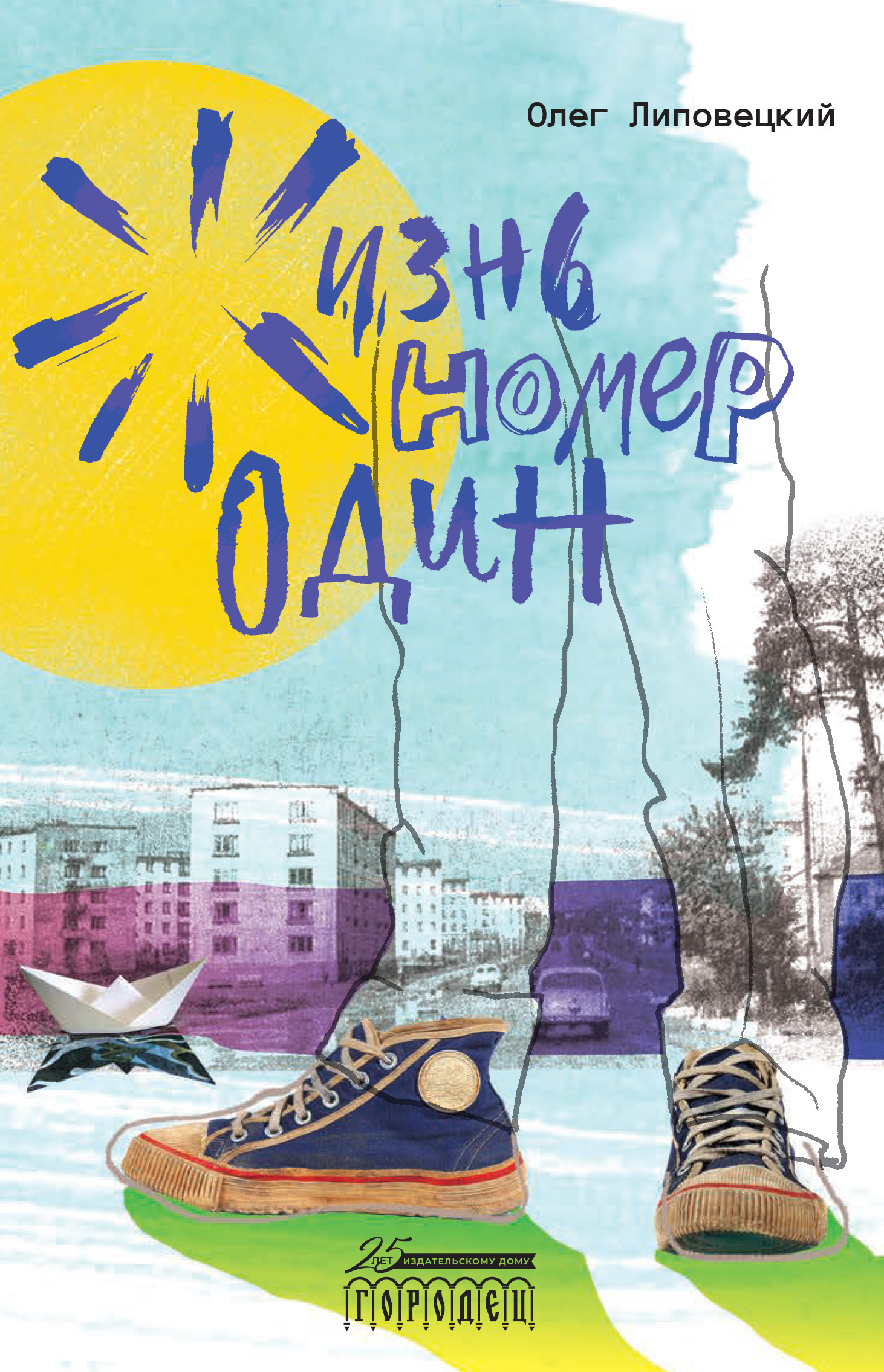ваша тупая дочь расскажет обо всем мне!
Повисла долгая пауза. Фары светили прямо на дорогу, так что лиц ее отца и матери я не видела. И вдруг отец Эмили спросил: «Какого ребенка?» И я поняла, что это оставалось исключительно между Эдвардом и матерью Эмили. И ее муж об этом не знал. А потом их тени отступили в свет фар, и я услышала звук захлопнувшейся двери автомобиля.
Я думала, что они бросят меня здесь одну до утра. Я не знала, что Эдвард тоже едет за мной, пока не увидела, как его машина, подъезжая, перекрывает выезд их автомобилю. Двигатель он глушить не стал, потому что Джо спит в машине только при работающем двигателе. Он протиснулся мимо их машины, цепляясь за заросли, потом обошел осколки бутылки посреди двора. Потом подошел и обнял меня так крепко, что даже приподнял немного — впервые, видимо, осознав, насколько я похудела. Он плакал — и я вместе с ним. И мы наперебой просили друг у друга прощения.
— Прости. Я не помнила, какое сегодня число, пока мы не приехали сюда.
— Ты не виновата. Ты ни в чем не виновата. Это все я.
— Она рассказала мне об умершем ребенке. Уже здесь рассказала.
— О Джонатане? Она рассказала тебе о Джонатане?
— Его так звали?
— Джонатан. Да. Но никто не знает. В смысле, мы никому не… Но как?
— Ты никогда мне не рассказывал.
— Мама хотела рассказать, когда ты подрастешь. И всегда было не время. Вечно неподходящий момент.
— Но все же знают!
— Нет. Нет. Неправда. Ни за что. Так, погоди, ты что, босиком? Тут какая-то гадость на камнях, — он поднял меня на руки и донес до ворот. Потом пришлось опустить — нести кого-то на руках мимо припаркованной поперек этой дороги машины просто невозможно, особенно если это огромная машина, как у родителей Эмили.
Я протиснулась мимо нее по обочине, по траве, добавляя в свои порезы грязь, оставляя по пути жирные кровавые следы на окнах их авто, и забралась на заднее сиденье, где с открытым ртом спал Джо, и воздух был влажный, отопление работало на полную, и пахло хлебными крошками и апельсиновым соком. Я отвернула угол его одеяла и накрыла им свои босые ноги, свернувшись тугим калачиком на свободном сиденье.
Я слышала их голоса, но не разбирала ни слова. Взрослые споры, хлопки автомобильных дверей. От виски и голода кружилась голова. Я закрыла глаза и вцепилась в край сиденья, словно это могло защитить меня от шума.
А потом приехала полиция. Они припарковались прямо за нами, осветив фарами наше заднее сиденье. Три машины выстроились друг за другом перед нашим домом в ожидании долгого обратного пути задним ходом по грязной дороге, чтобы выехать отсюда.
Полицейские желали убедиться, что со мной все в порядке. Я сказала, мол, да, но они открыли дверь, увидели мои окровавленные руки и ноги, и побежали за аптечкой. Пока они обрабатывали раны, то не могли не заметить, что я вся в порезах, шрамах, что кожа у меня сухая, желтая, шелушится, и что я тощая, как скелет. Они спрашивали меня про наркотики, про порезы, про питание, и велели Эдварду утром отвезти меня к врачу.
Полицейские убедились, что мы обе целы, и тут же уехали задним ходом, а за ними мы, а за нами — семья Эмили. Наши машины месили грязь и гравий, уничтожая заросшие травой обочины. Наша машина дважды глохла, Джо просыпался, я успокаивала его, чтобы он снова заснул, и вот мы выехали на главную дорогу и повернули прочь от дома в последний раз.
И даже если бы я тогда оглянулась, чтобы посмотреть на крыши и дымоходы в лунном свете — боюсь, было слишком рано, чтобы увидеть, что искры от потухшего камина каким-то образом попали в воронье гнездо в дымоходе, а разбитые окна и полуоткрытые двери всю ночь подпитывали огонь воздухом, и тот разгорелся, переполз от трубы к балкам, и весь этаж заполнился медленным, целеустремленным, неумолимым дымом, который высасывал из старого дома жизнь, комнату за комнатой, пока вся конструкция не рухнула под собственным весом.
Мы уезжали и не могли в темноте предвидеть, что падение этого дома будет означать для нас полную финансовую невозможность когда-либо туда вернуться. Мы не знали, что люди, которые купят его с аукциона в том же году, перестроят его до полной неузнаваемости. Я как-то просила съездить туда и попрощаться с домом, но Эдвард отвечал, что зрелище будет для меня слишком грустным. К тому же после вышеописанных событий я довольно долго была не в форме куда-либо ездить или что-либо делать. Наш мир сжался до размеров нового дома, а сама я сжималась под одеялами в своей неправильно пахнущей комнате, предварительно задернув занавески перед неправильным видом из окна, и пыталась заново научиться есть, спать и быть здоровой. Из всего, чему пришлось заново учиться после ухода мамы, это было, наверное, самым сложным.
Из той ночи я запомнила еще кое-что: голод. Перед тем, как в течение нескольких секунд я обрела и потеряла брата, меня непрерывно мучил голод. Я ощутила его, едва мы вошли в дом. Я могу четко назвать момент. Это случилось не в пабе, когда я обсасывала с орешков соль, выплевывая сами орехи в ладонь. И не по пути к дому.
Это случилось в тот миг, как я открыла дверь. Я искала банку для свечки, ветошь для растопки, и пока рыскала по кухонным шкафам, меня терзала надежда найти что-нибудь съестное. Банку тунца, например. Мне хотелось найти банку тунца.
Я смотрела на Эмили, читающую написанные на картонке заклинания над карточным кругом, а мой желудок в это время урчал, бурчал, булькал и требовал пищи. Чем больше я вдыхала аромат дерева и песчаный запах каменного пола, разгоравшихся щепок, деревянных кубиков, с которых огонь слизывал древние бумажные наклейки, тем сильнее мой желудок умолял о еде.
Это был не тот голод, который заставлял меня украсть в супермаркете пакетик конфет. Такой голод не утолить банкой оливок. Я хотела печеной картошки с маслом и сыром. Я хотела жирно намазанный тост. Я хотела жареную курицу с подливкой.
Заново учиться есть — задача сложная. Так не бывает, что в старом доме тебя встречает мертвая мама в обличье ворона, дует тебе в ноздри, чтобы ты вдруг ощутила запах еды и проголодалась, и оп — все работает. Это занимает много времени, и в течение этого времени ты придерживаешься плана питания, ходишь на группы в сырых закоулках Центра ментального здоровья подростков, ненавидишь родителя, который готовит тебе еду и так планирует нерабочее время, чтобы успеть отвезти тебя на все нужные встречи, а ты отказываешься выходить из машины, разговаривать с кем бы то ни было, а однажды даже рвешь на куски план питания и демонстративно съедаешь эти обрывки у всех на глазах.
Но я отчетливо помню первый момент, когда ощутила голод: запах старой кухни заставил меня искать еду. Мне плевать, как врачи это называют. Я называю это тоской по дому.
Я простила Эдварда за то, что он не рассказал мне об умершем брате. В конце концов простила. Он говорил, что они всегда хотели мне рассказать, когда я вырасту. А потом, после нашей утраты, он попросту не знал, как преподнести мне еще одну смерть. Обычно мама решала, когда пора о чем-то сообщить, когда настало время. Без нее он не мог. Были какие-то вещи, которые он предпочитал делегировать ей. Пусть даже она больше не могла принимать решений.
Единственный намек на то, почему мать Эмили знала семейные тайны, я получила от него, когда после колледжа устроилась работать в книжный магазин и слишком уж часто упоминала одного из хозяев: «Марианна, я дам тебе всего один совет касаемо работы: никогда не спи с боссом. Серьезно».
Я спросила, можем ли поставить памятник моему умершему брату, чтобы приходить к нему на Бдения украшать могилку, чтобы его не забыть. Не незаметный камень у Зеленой часовни у реки,