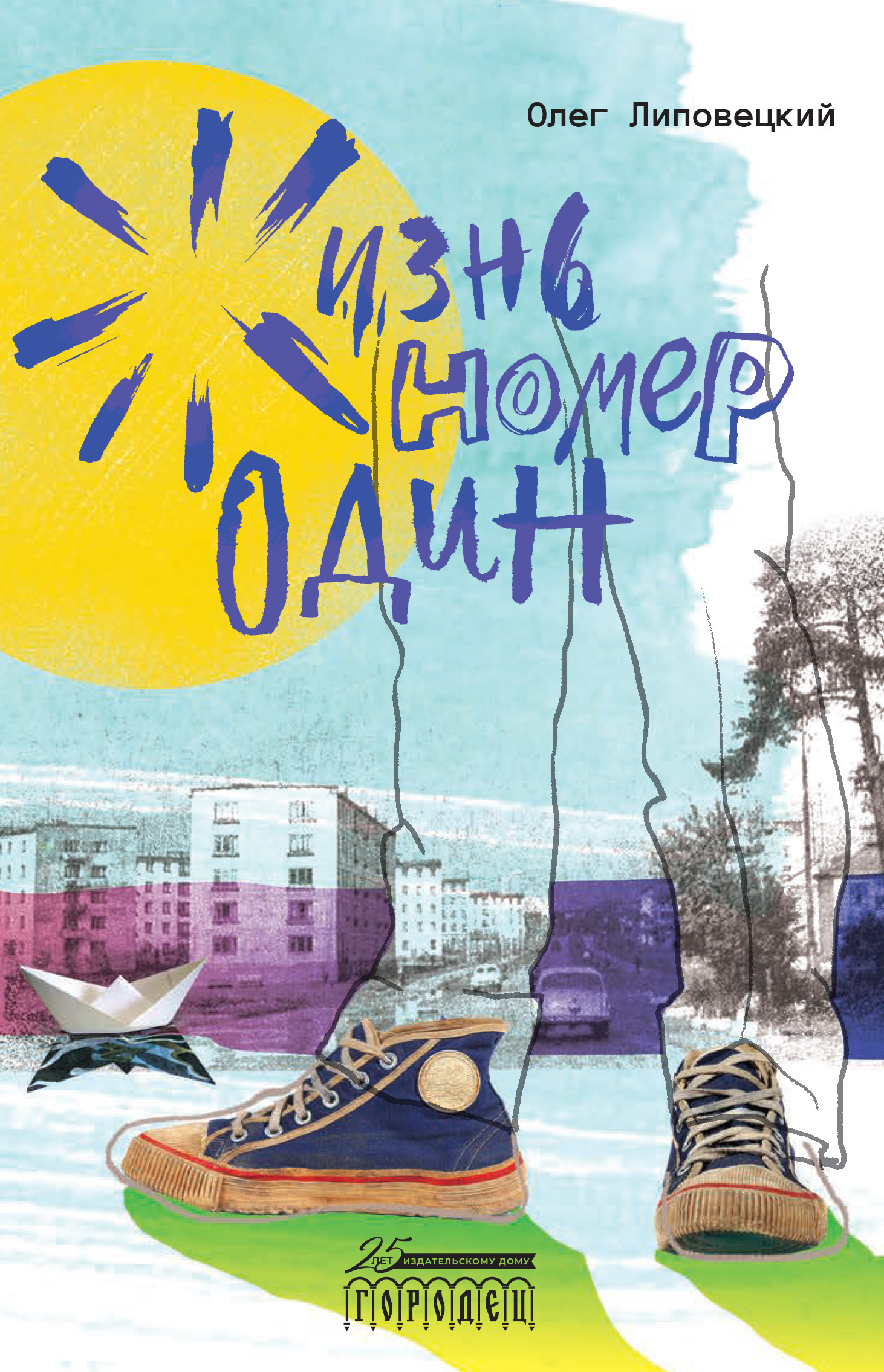брата. Не смешно. Хотя бы Джо не впутывай.
— Я тебе говорю, я не про Джо. Я про другого.
— У меня нет другого брата.
— Конечно нет, он же умер.
— Да что ты гонишь? — я зашагала вниз по лестнице. Окровавленная ладонь скользила по перилам, в ноги врезались осколки. Боли не было. Меня жгла ярость и негодование, а под ними таился еще более жгучий страх. Я распознала его и наотрез отказалась его принять. Знакомая тактика: осознание и отказ от осознания, перекрывающие друг друга за долю секунды, за один вдох, за удар сердца.
Эмили внизу уже устроилась в своем теплом гнезде у камина, а я ходила вокруг, собирая подошвами босых ног остатки стекла, выискивая, чтобы еще такого нелепого подбросить в огонь. Меня безостановочно трясло. Я схватила продавленный стул и стала что есть силы колотить им о каменную каминную полку. Эмили плотнее закуталась в одеяла и закрыла руками голову.
Когда ножки стула расшатались, я запихнула его в камин, не обращая внимания, что часть стула торчит снаружи. Пару минут огонь пожирал тканевую обивку, потом угас. Я допила остатки виски прямо из бутылки.
— Ладно, — сказала я. — Пока я не окочурилась от холода и голода, быстро объясняй, о чем ты говорила.
И она объяснила. Рассказала то, что скрывали мои родители. Что в тот год, когда они поселились в этом доме, у них родился ребенок, мальчик, в той самой спальне в конце коридора. Он не дышал. Его похоронили на старом кладбище за рекой, им давно никто не пользовался. А потом родилась я. Вот и вся история. Ей мать рассказала. Как Эдвард женился на своей бывшей студентке, увез ее в старый дом в деревне, а потом у них умер ребенок.
Моим первым импульсом было все отрицать. Заорать: «Врешь!»
Я и заорала. Долго орала. Мне на ум не пришло слова лучше, чем «врешь», и я продолжала его выкрикивать даже после того, как мой мир пересобрался вокруг меня в новый и гораздо более жуткий мир.
Я ее возненавидела. За то, что она знала. За то, что именно она мне все рассказала. Потому что даже когда я орала: «Врешь! Ненавижу тебя! Ты врешь!» — я вспоминала, как мама пела мне песенку про зеленую тропку, где трава зелена. И теперь я знала, о ком и для кого она пела. Я знала, что это песня для новорожденного, которого омыли молоком, запеленали в шелка, а потом втайне дали ему имя, которое больше никто никогда не произнесет вслух, записали его золотыми чернилами и похоронили вместе с младенцем у Зеленой часовни, куда мы ходили ставить свечку. Каждую зиму. После Рождества.
Я помню, как пела ту песню у реки.
Вот всё для тебя —
Молоко и шелка,
И золотом имя
Выводит рука.
На этой песне все держалось. Я всю жизнь знала, что если мы с мамой когда-нибудь встретимся и обе к тому времени изменимся до неузнаваемости, то я спою эту песню, чтобы она меня узнала. Это была особая песня для особого дня в Зеленой часовне — песня для упокоения усопших.
В Зеленой часовне. У моста, который зимой уходит под воду. Воду, в которую она ушла. Там нашли след ее ноги. Четкий, потому что она не надела ни резиновых сапог, ни выходных туфель, а то, во что она была обута, вероятно, потерялось по дороге. Остались следы в грязи — отчетливые, отпечатался каждый пальчик — они были, когда полицейские впервые фотографировали те места, а когда приехали повторно, там уже побывали быки, растоптали грязные берега копытами, и ничего не осталось.
А потом оказалось, что самые первые фото были нечеткими, к тому же кто-то сделал ошибку, занося их в список свидетельств по делу, поскольку предполагалось, что на другой день приедут специальные люди со специальной техникой и сделают нормальные снимки. А следы были уничтожены. Так что нет никаких официальных записей о том, где именно она могла утопиться или какая на ней могла быть обувь.
Но теперь я орала: «Врешь! Ты врешь! Ненавижу!», и Эмили все глубже втягивала голову в одеяла, приподнимая плечи, как крылья, словно защищаясь от меня, и с каждым воплем во мне крепла уверенность, что она права, а я — нет. И еще я понимала, что есть какая-то связанная с Эдвардом причина, по которой ее мать обо всем знала.
И вдруг я почуяла след чего-то знакомого, чего-то, что мешает видеть находящееся прямо под носом: стыда. Я распознала ту стыдную ярость понимания, что абсолютно, безоговорочно неправа. Так что я продолжала до последнего орать и крушить вещи, потому что знала: едва наступит тишина, как я окажусь в мире гораздо ужаснее того, в котором я жила прежде.
Может быть, я бы и до утра прокричала, но нельзя недооценивать деревенских жителей. И их общую память. И разговоры в баре после нашего ухода. И календарную дату. Разговоры передавались из уст в уста, пока не дошли до менеджера бара и тот не позвонил родителям Линдси. Их номер знают здесь все, поскольку они владеют местным таксопарком, и они знают номер Эдварда, а Эдвард позвонил родителям Эмили, а те вызвали полицию.
Однако у полиции есть дела поважнее, чем кататься по заброшенным домам и проверять, не курят ли нелепо одетые подростки там траву и не делают ли еще каких-то глупостей, зато вот родители Эмили живут ближе к трассе, а еще им не надо будить спящего семилетку и запихивать его досыпать в автокресло, а еще у них полноприводная машина, которая с легкостью одолевает грязную грунтовку, так что они прибыли на добрых сорок минут раньше остальных.
Эмили узнала семейный автомобиль по звуку, пулей вылетела из своего гнезда и выбежала через заднюю дверь, не успел свет фар пробиться из-за последнего поворота; она неслась прочь от проклятого дома, от орущей окровавленной ведьмы и призраков с черными крыльями, прямо в мамочкины объятия. Кто виноват — даже не обсуждалось. Дом мой. Привезла ее сюда я. И все видели, что я пьяна, ору, матерюсь, меня шатает, а еще я во все стороны брызгаю кровью.
Кажется, когда Эмили выбегала из дома, вместе с моими проклятиями ей вслед летели какие-то вещи. Например, я бросила полуобгоревшую ножку стула — та упала, дымясь, на булыжную дорожку, а мамочка Эмили в это время пеленала бедную деточку в заранее приготовленное теплое пальто и заталкивала на заднее сиденье обогреваемого «ренджровера».
Затем она напустилась на меня. Я помню, что перед тем, как начать поносить мой характер и поведение, она расстегнула заколку, тряхнула распущенными волосами и снова их заколола. Я попыталась отступить и захлопнуть дверь у нее перед носом, но полотно разбухло от сырости, и дверь открылась обратно. Таким образом вся обращенная ко мне разгромная тирада прерывалась хлопаньем открывающейся и закрывающейся двери, моими криками и — под конец — вялым бормотанием, которое я определила как голос ее мужа, решившего тихонько присоединиться к супруге.
Я ее не слушала. Хотя говорила она довольно много. Прямо как-то нереально много. И по тому, как долго длился этот монолог, я осознала, что я в самом деле ужасный человек. Гораздо хуже, чем они думали. Что само по себе весьма паршиво.
Каким-то образом у меня в руке оказалась пустая бутылка из-под виски, и когда в перечне моих злодеяний образовалась пауза, я швырнула бутылку во двор, где та со звоном разлетелась о камни, но даже это не прервало поток ее ругани. Впечатляюще.
В конце она сказала что-то вроде «объясняться будешь, когда приедет полиция». Тут я расхохоталась. Я уже восемь лет регулярно рассказывала полиции, какое я ничтожество. А когда она наконец замолчала, я выпалила:
— Лучше вы объяснитесь, почему Эдвард рассказал вам про умершего ребенка, о котором вообще никто не знает, даже я и Джо. И почему вам взбрело в голову, что это отличная идея — если