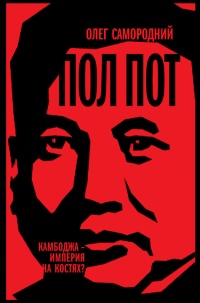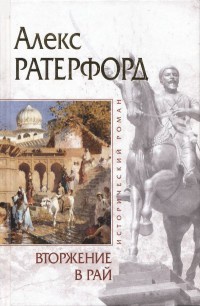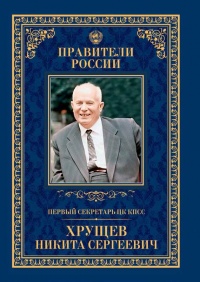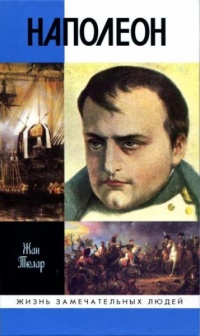весьма опасался, однако не более чем любой другой житейской напасти. В глубине души Афонька, беглый холоп князя Щербатого, с задорной даже отчаянностью полагал, что вряд ли безбожные татары и турки сумели бы поразить его воображение больше, чем стольник князь Василий Осипович Щербатый, прямиком к которому, предчувствуя впереди самые изумительные превратности, он сейчас за неимением лучшего и направлялся.
Ждали впереди беззаботного человека Афоньку батоги, шелепа, кандалы; подьячий, как водится, рассчитывал на калач горячий; ямщик предвидел умственным взором постоялый двор и немалую какую-нибудь меру водки.
И вот тебе раз — подломилась ось.
Вздули огонь, чтобы управиться с кашей до темноты. Мезеня приволок дубок, подходящее по размер полено. Осталась работа не утомительная — подтёсан брус по старому образцу, и Мезеня подвинулся к костру, ближе к Афоньке, который, взявшись приготовит из чужих харчей ужин, тешил попутчиков сказкой.
— Купеческий сын простился на постели с женой да и поехал с ними. Едут они морем. Вдруг выходит из моря морской горбыль...
— Горбыль?
— Горбыль, — важно, с неудовольствием подтвердил Афонька. Постучал мешалкой по краю медного котелка и, выдерживая слушателей, словно в наказание помолчал.
Низкое солнце уже оплывало в землю. Высоко в ро зовом небе распластала крылья птица-гриф, а внизу вскинув горбоносые головки, рассекали грязно-лиловую траву сайги. То ли волки за ними стлались, то ли дикий кот прянул — людям не усмотреть. Сайги исчез ли, растворились без звука. И сколько Мезеня, разогнув поясницу, ни вглядывался, ничего стоящего не приметил.
Степь... Ещё высокое, лошади под брюхо разнотравье могло поглотить и зверя, и человека, но намётанный взгляд уже открывал предвестники летней засухи: голубые пятна царь-зелья и длинные тёмно-красные соцветия чемерицы. Скоро отцветут и они, степь выгорит, поляжет жухлыми космами.
Мезеня бросил взгляд на пищаль возле телеги, тюкнул тихонько топором и опять замер.
И Афонька осёкся. Только-только решился он возобновить повествование о мудрых ответах купеческого сына на вопросы Судьбины, как вскочил с недоумением на лице и уставился в бурую даль. Наконец и Федька, встревожившись после всех, различил неладное: тоненький, громче комариного писк: а-я-ай-я!
— Запалить? — с воинственным подъёмом, так, что голос сорвался, спросил Мухосран. — Запалить что ли? Для береженья? — Он имел в виду фитиль на пищали.
Мезеня лишь подавленно выругался в ответ, отшвырнул топор и бросился наземь — чертыхаясь, принялся стаскивать с ноги сапог. Затем, не покончив толком и с этим делом, — ступня осталась в голенище, — зачем-то пригибаясь, посунулся хромающим поскоком в сторону, и вскоре обнаружилось, что целью его судорожных перемещений является вонючий, измазанный дёгтем горшок. Горшок Мезеня схватил, но тут же с пугающей непоследовательностью бросил — плеснула густая бурда. Мезеня же снова сграбастал сапог, сдёрнул его рывком — выпал тощий кошелёк.
Ещё несколько мгновений подьячий оцепенело следил, как Мезеня пропихивает мошну в горшок, потом, опомнившись, как спросонья, кинулся к горшку с дёгтем и отправил в заляпанное горло перстень.
Теперь уж отчётливо различался конский топот и клич:
— Яса-ак! Ясак промышляй! Ясак!
В полуверсте скакали несколько всадников, белым клочком вздулось на копье знамя.
Разглядывать разбойничью ватагу времени, однако, не оставалось. Неловкими пальцами выловив в кармане ключ, Федька тыкал им в замочную скважину сундука. Здесь под крышкой, на платье, лежал у него хороший, немецкого дела колесчатый пистолет. Федька цапнул его за ствол и, не вставая с колен, зашвырнул подальше — в траву. Затем сунул руку куда-то под бельё и сразу извлёк маленькую кожаную столпницу — круглый футляр для свитков. И столпницу с той же болезненной поспешностью принялся он совать в горлышко дегтярного кувшина, который оказался на счастье достаточно велик, чтобы, выплеснув долю бурой гущи, проглоти ещё и этот подарок. А напоследок — кошелёк.
Вот, кажется, всё.
— Руки, — злобно прошипел Мезеня. — Руки, подьячий, в дёгте! Оботри!
Напрасно тем временем охлопывал и ощупывал себя, заглядывал в шапку Афонька — прятать ему оказалось нечего.
Всадников можно было насчитать шестеро. Один приотстав, пустил лошадь шагом, чернел по закатному солнцу, остальные, подбоченясь и ухмыляясь, подъезжали к костру.
— Здравствуйте, атаманы-молодцы! — громко объявил Мезеня, кланяясь на три стороны.
Несомненно, это была голытьба, гонимая ветром по степи ватага вольных казаков. Федька видела среди них и природного татарина — тёмный, плосколицый, имел на себе только вывернутую мехом наружу баранью шкуру; раздвинутая на груди, она открывала тело.
Пристальный взгляд мальчишки татарину не понравился, он сказал резко:
— Опусти глаза, раб!
Не понять тут нельзя было — татарин вскинул лук. По обыкновению степняков, взявшись за лук, он обходился без поводьев, с пяти шагов не промахнулся бы в зрачок. Федька отвёл глаза.
Казаки, бородатые или обросшие щетиной, давно не стриженные, обносились, гоняючи по степи, — рвань кафтаны, засаленные островерхие шапки, на ногах опорки. У этого спутанные лохмы, у того — намотанный концом на ухо длинный и тонкий, как перекрученный червяк, ус. И вооружены кто во что горазд: если сабля, значит, рогатины нет, у кого рогатина — тот без самопала. Наехали степные молодцы невзначай добычу и высокомерно, красуясь, оглядывали Федьку. Лошадь с храпом переступали, толкали путников крупами.
Атаман — а был им тот отмеченный палачом мужик на щеках и на лбу которого угадывались застарелыми ожогами три буквы: рцы, земля и буки — посаженные по всему лицу р-з-б, — атаман держал привязанное к тупому концу копья знамя и решительно воткнул его в землю. Показывая тем самым, что казаки прибыли, намерены остаться и вступить во владение окрестной степью со всеми её дарами, включая сундук, гречневую кашу на костре, уже подгоравшую, вонючие онучи Мезени, любовно развешанные на опрокинутой телеге, пищаль, топор и целый горшок дёгтя, — словом, всем, что только произвела плодородная степная почва.
— Ты и ты — убирайтесь! — гундосым голосом распорядился атаман, соскакивая с коня.
Мезеня с Афонькой исчезли.
И вслед за тем, без какого-либо предупреждения получив молодецкий удар по уху, Федька полетел с ног и обнаружил себя на карачках лицом в землю. Надсадный треснутый звон обнимал голову, отзываясь в онемевших кончиках пальцев.
Истоптанная трава. Чёрный жучок, едва ли взволнованный разыгравшимися неведомо где страстями, карабкается сквозь раздавленные волокна. Каждую чёрточку, тень, листик, ошмёток грязи, корявые ножки жука и крылышко — всё сразу, единым целым видел Федька, но мысль, даже частица мысли не могла проникнуть в этот уединённый сонный мирок.
И потом, когда Федька уже стояла, непослушными пальцами расстёгивая ускользающие пуговки ферязи, она помнила