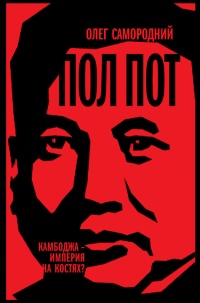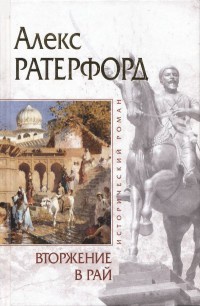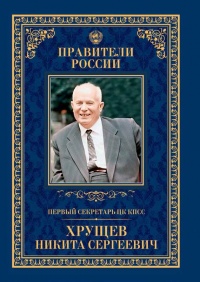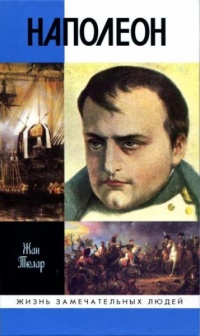Книга Час новолуния - Валентин Сергеевич Маслюков

- Жанр: Книги / Историческая проза
- Автор: Валентин Сергеевич Маслюков
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
В XVII веке во времена царствования Михаила Фёдоровича на степной границе Московского государства не прекращается изнурительная война с татарами. Здесь пытают счастья вольные казаки, и одна за другой всё дальше на юг возводятся стены полувоенных городков. Героические события и судьбы главных героев причудливо сплетаются в единый узел...
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Час новолуния - Валентин Сергеевич Маслюков», после закрытия браузера.