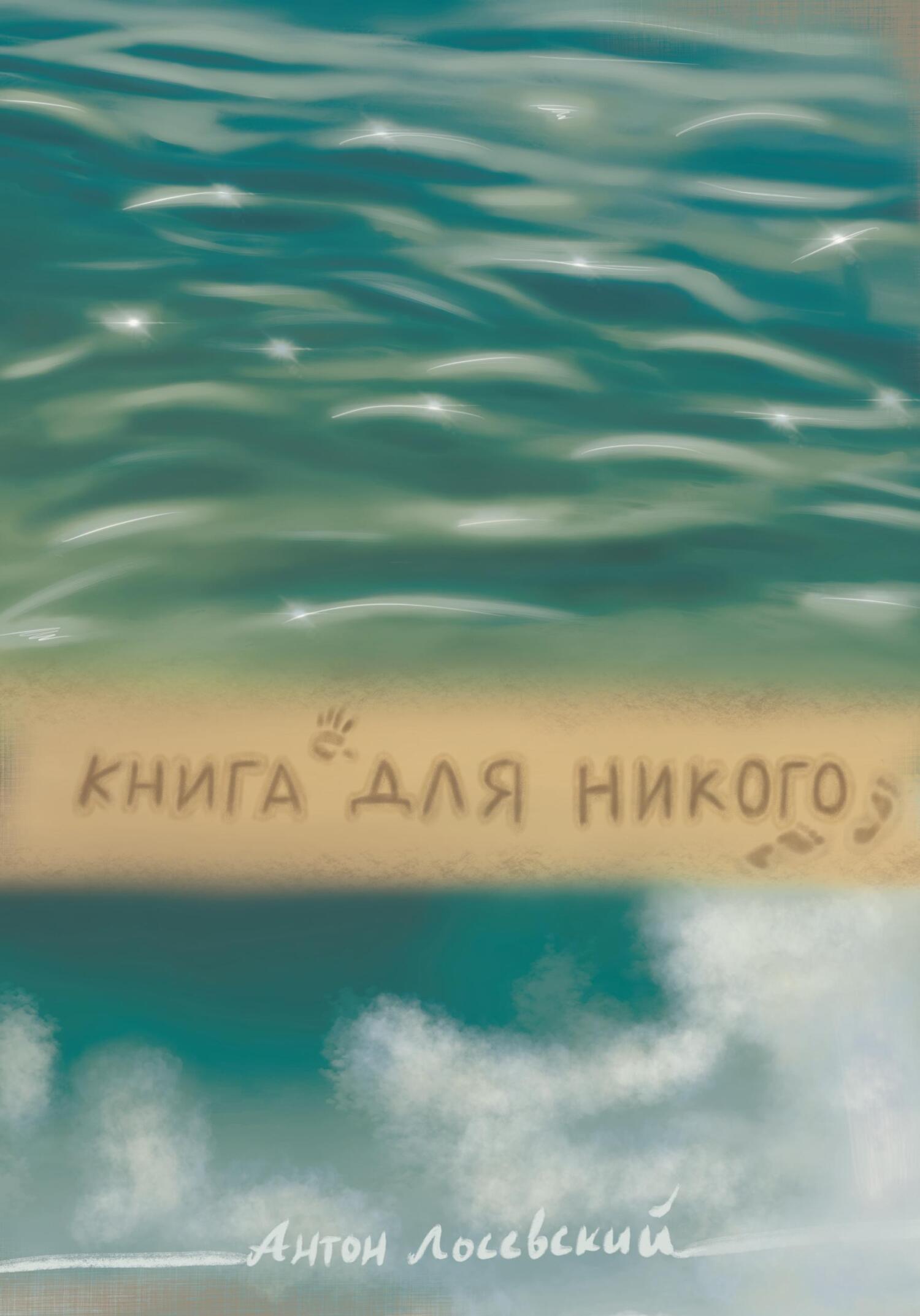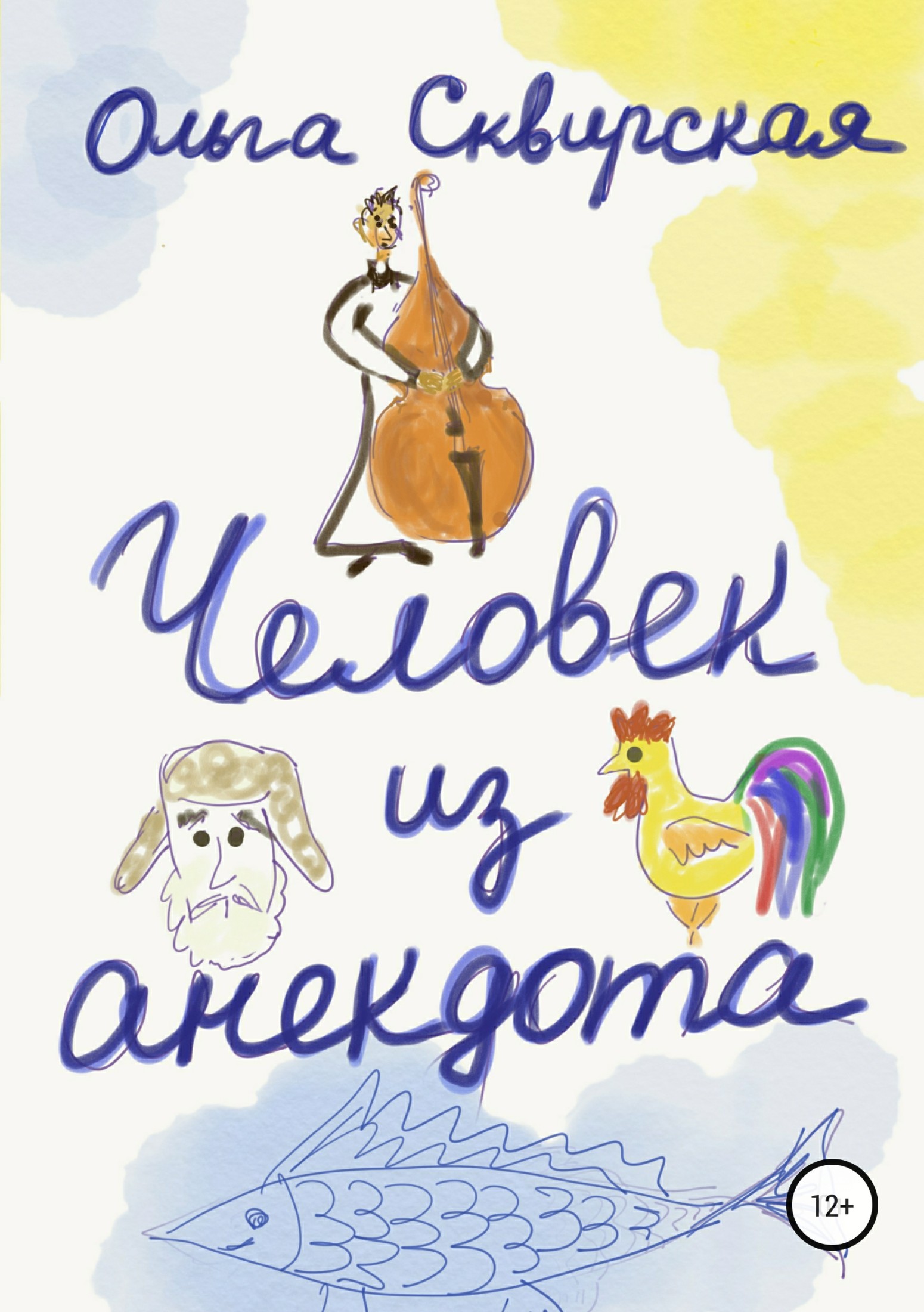выпустили из лагеря; я не знаю почему, должно быть, в тот момент его преступления еще не были известны до конца.
Когда же уполномоченный Уголовного розыска в городе Ауле представил мне приказ коменданта города Улаганска, я окончательно убедился в том, что я возвел на себя чужие преступления. Все перепуталось, я не знал точно, что я совершил доподлинно, а что приписал мне мой двойник...
У Вас же все это получилось очень просто: Ваш Корнилов легко, незаметно для самого себя чуть ли не полностью отрешился не только от всего того, что совершил когда-то его однофамилец, но и от того, что совершил он сам. Отрешился и зажил чуть ли не счастливой жизнью. Нет, нет – так не было, не могло быть!
Что меня спасло – это встреча с бывшим генералом Бондариным, как Вы его называете, а потом и работа в Крайплане, работа с таким энтузиазмом, который Вы и в малой степени не смогли передать в своем произведении. Вот тогда-то мой однофамилец отстал от меня, потерял меня.
Но опять ненадолго – я все больше утверждался в мысли, что Корнилов Петр Николаевич жив! У меня были к тому основания, во всяком случае, Вы были правы, когда изобразили приезд из Ленинграда агента акционерного общества «Хим-унион» по вопросу производства карнаубского воска, он вовсе не по этому поводу приезжал. И не в «Хим-унионе» он был агентом...
Вот с этого момента, показалось мне, Ваш роман должен был резко повернуть в сторону отношений между двумя Корниловыми при том, что они никогда больше так и не встретились.
Однако Вы пошли по иному пути и совсем предали забвению моего двойника. Очень странно! Вы даже мою манеру говорить и думать усвоили, уж это точно, я чувствую себя в Вашем Корнилове, но тут Вы от меня, двойного Корнилова, отступились, ушли куда-то в сторону, да и не вернулись... Может быть, это было удобнее для романа, а может быть, для его автора... Но о себе-то я знаю: двойник, который давным-давно уже не существует на свете до сих пор, негодяй, существует во мне, в моей судьбе, в моем одиночестве. Так и умру с ним вместе не одной, а сразу двумя смертями, а что поделаешь? В этом даже будет некоторое удовольствие: сам умру и его наконец-то умертвлю!
И как странно, что то же самое время было и временем моего великого счастья!
Бывает же, это известно, что природа создает вдруг такое совершенство, что перед собственным чувством к нему ты сам никто и ничто. Бывает же, что твое чувство встречает взаимность! И бывает, что уже вскоре и самым противоестественным образом ты теряешь все это навсегда. И даже понимаешь при этом, что навсегда! Я даже не успел догадаться, не успел узнать, что там было еще в той жизни, в душе той женщины, которую я потерял. Не успел узнать, не оказался достоин, не сумел! И все, что мне оставалось, это догадываться обо всем том, что было мною потеряно. Время-то для догадок у меня было – больше полувека. Но все равно я и тут мало что успел.
Когда мы встретились, ни девичества, ни юношества в нас уже не оставалось, мы были разными людьми с совершенно разными с у д ь б а м и.
И происходило приятие судеб друг друга со всеми их муками, испытаниями, страстями, терпением и нетерпением, ошибками, заблуждениями, со всей их телесной и душевной зрелостью, со всеми тревогами, опытом и сомнениями, которыми эти судьбы обладали каждая сама по себе для того, чтобы в конце концов и произошло это приятие. Но ведь оно так и не произошло! Разве только в чуточной какой-то мере... Я виноват! Меня так увлекло, так покорило настоящее, все, что происходило между нами сию минуту, что я подумал, будто мы начинаем все сначала.
И почему я, «бывший», мог так подумать? Как мог, если сам себя представил последним Адамом, а ее последней Евой? Если в минуту самой близкой близости говорил ей о конце света?
О конце света помнил, а о ее прошлом, о своем прошлом забывал?! Уж эта мне магия настоящего, вот она что натворила!
Должно быть, я поддался мечте о завершении: мы встретились и эта встреча завершит все наше прошлое, думал я тогда. Ведь так приятно и так необходимо – завершить! Поразить самого себя итогом и даже определенным выводом из всей своей прошлой жизни и тем самым избавиться от прошлого.
Как будто я не знал, что жизнь, покуда она во мне длилась, никогда не терпела никаких итогов, завершений и заключений. Но, может быть, иначе мне было нельзя? Может быть, в том и состояло тогда мое тайное сопротивление концу света, что я не в состоянии еще был подвести хоть какие то итоги своей прошедшей жизни?
Говорят «любовь» и думают, будто этим что-то сказано. А этим ничего не сказано, я помню, знаю – ничего! Это все равно, что сказать «небо» или «земля». Ну и что? Какое небо? Какая земля?
А это вот что было: множество чувств, мыслей, влечений, существований, на которые способен человек. Это и радость, и тоска, и счастье, и несчастье, и страсть, и тишина. И бог знает что... Нет, бог тоже не знает. Бог может учить человека чему угодно, но только не любви, любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине – это единственное, чему бог должен учиться у людей. В этом деле он приготовишка, дитя, которому еще предстоит стать юношей, не говоря уже о какой-то там зрелости. Ведь бог – бесполое существо.
Почему же, почему Вы написали о моей потере так простенько? Сегодня потерял, завтра побеседовал с Председателем человечества, послезавтра пошел в ресторан «Меркурий», пообедал и поговорил с бывшим генералом о том, где мы нынче находимся, на краю света или при конце его? И в день потери, и завтра, и послезавтра у Вас все тот же самый Корнилов Петр Николаевич, а ведь было совсем-совсем не так: сегодня была потеря и сегодня же Корнилов стал другим человеком, не Николаевичем, не Васильевичем, а кем-то никогда еще не известным для самого себя – оскорбленным, униженным всем окружающим миром. Стал совсем не человеком, а только существом, потерявшимся в этом мире. Лишенным того единственного, чего лишаться невозможно. Нельзя! Вот когда я потерялся так, как не терялся еще никогда! Вот когда я до конца стал никем...
Я сгорал от стыда, я погибал