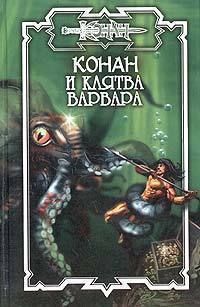поэтому и с детьми не задалось.
Это новое чувство растворения длилось и длилось, а потом их тела, не спросившись у них, соединились и долго-долго и нежно-нежно любили друг друга.
— Парасенька, родная моя девочка, — шептал он, — не бросай меня.
— Люблю, люблю, люблю, — повторяла она.
Ближе к концу он тревожно спросил:
— Парасенька, а можно…?
Она не сразу поняла его, а сообразив, ответила:
— Ни о чём не думай, родной, — хотя на самом деле ничего не знала и не понимала: вопросы контрацепции остались далеко в той, прошлой, жизни. А он вот вспомнил. Он всегда был ответственным и дисциплинированным любовником. Впрочем, нет, любовником он не был никогда, сначала был другом, а потом мужем, а кто он сейчас — Бог весть…
— Парасенька, родная моя девочка, ты волшебница, — шептал он потрясённо. А она, утомившись, снова задремала. И даже увидела сон: они, молодые, идут вдоль моря, держась за руки.
* * *
В шесть часов их разбудил будильник в телефоне: он у Прасковьи всегда стоял на шесть.
Они ещё с полчаса лежали и целовались, как делали когда-то, молодыми, в начале их жизни. При свете она увидела, сколь жутко изранено его тело: особенно почему-то впечатлили следы пуль на спине. И шрамы, шрамы от ран, не слишком аккуратно зашитые. Она целовала его тело и молчала, чтоб не заплакать. Он расшифровал её состояние как разочарование.
— Парасенька, я постараюсь.
— Что постараешься? — не поняла она.
— Постараюсь привести свою потрёпанную тушку в порядок, — он улыбнулся, — чтобы чуть-чуть тебе нравиться. Знаешь, я когда-то ужасно гордился, что тебе нравлюсь. Я и сейчас очень-очень этого хочу — тебе нравиться. Ну хоть чуть-чуть… — его голос прозвучал жалобно-просяще, что к нему не шло. — Я подкачаюсь, потом схожу в какую-нибудь приличную косметическую лечебницу: пускай они меня подшлифуют; наверняка ведь, есть какие-то способы. В общем-то я умею приводить себя в порядок: поначалу я и ходил-то еле-еле, а сейчас даже слегка бегаю. Разыщу своего старого тренера, а нет — так нового найду.
А ты — всё такая же красивая. Господи! Как я люблю тебя! — он прижал её к себе.
«Удивительно, как мужчины связывают с этим делом чувство собственного достоинства, — думала Прасковья. — Даже такие умные, как Богдан. Ведь это всего лишь физиологическая реакция — как пищеварение или ещё там что-нибудь».
— Я постарела, Богдан, ровно на те же пятнадцать лет, — она положила голову ему на грудь.
— Я этого не вижу, моё солнышко. Ты волшебница. Я и предположить не мог, что на эдакое способен. Правда-правда! Я такого от себя ну никак не ожидал. И всё это ты. Ты можешь всё, что захочешь, я это всегда знал.
— Я тебе ещё чертёнка рожу, — сказала она неожиданно для самой себя. И тотчас испугалась. С ним она говорила что-то неконтролируемое, хотя в остальной жизни привыкла очень взвешивать даже самые проходные реплики.
— Господи, неужели это возможно? — прошептал он с растерянным изумлением.
— А тебе бы хотелось? — она поцеловала его седую шёрстку.
— Конечно, хотелось бы, родная. Но всё это так потрясающе, так невероятно… я не в силах этого переварить. Это совершенно невозможное, нездешнее счастье. В этой жизни такого не бывает.
— В этой жизни пора вставать, — она поцеловала его шершавую щёку. — Позавтракаем не торопясь. Когда начинается тут завтрак — в семь?
— В полседьмого, — ответил он.
— Тем более пора. Я люблю в поездках приходить рано на завтрак.
Он мгновенно собрался, как всегда делал в прежней жизни. Она умылась и ощутила стянутость кожи: крема для лица не было. «Как привязан современный человек ко всей этой муре: крема нет — и уж жизнь не в жизнь, — подумала Прасковья. — Как раньше-то люди жили?». Впрочем, сто лет назад в её годы женщина была начинающей старухой, а она — почти юная невеста собственного бывшего мужа.
Они спустились по лестнице, держась за руки, как ходили когда-то.
— Девочка моя любимая! — он украдкой поцеловал её куда-то повыше уха.
Сели возле окна, с видом на Исторический музей. Он сидел напротив неё и молча глядел с печальной лаской. Глаза его лучились, окружённые сухими морщинками. И были они голубыми: с чего она взяла, что глаза его стали серыми?
Она почувствовала, что голодна: не ела со вчерашнего обеда.
— Давай возьмём чего-нибудь, — сказала она. — Ты что ешь на завтрак? Кашу «Пять злаков»? — напомнила она о том первом в их общей жизни завтраке. Он рассеянно улыбнулся: не понятно, вспомнил или нет.
Она наложила на тарелку вкусной снеди и принялась её уписывать. Прасковья всегда наедалась на завтраке в хороших гостиницах. Просто рефлекс какой-то: наесться на хорошем шведском столе. Как ни преуспела она на ярмарке житейской суеты, а всё осталась девочкой из провинции.
Богдан взял блин, поковырял его и недоел.
— Давай я тебе принесу чего-нибудь вкусненького, — предложила она: её встревожило полное отсутствие у него аппетита. «Господи, что с ним? И эта худоба…»
Подошедший официант налил им кофе.
— Кофе — это, пожалуй, то, что нужно, — улыбнулся он. — По утрам мне редко хочется есть.
— Послушай, Богдан, а чём тебя кормили… там? — смущаясь, спросила Прасковья.
— Ты будешь смеяться, — улыбнулся он. — Собачьей едой.
— Правда что ли? — растерялась она. — Прямо собачьей?
— По виду совершенно собачьей: коричневые хрустящие гранулы. Давали на день синюю пластиковую миску таких гранул и двухлитровую бутыль воды. Этого хватало для поддержания работоспособности. Гранулы были даже персонифицированные: в них подмешивали что-то нужное именно данному нумеру. Время от времени брали кровь и на основании анализа определяли, что подмешивать. Проявляли, можно сказать, заботу о людях. Так что питание там было вполне здоровое, — он иронически усмехнулся. — Побочным эффектом такой кормёжки была полная потеря интереса к еде. Я никогда не был особым гурманом, но в прежней жизни кое-что всё-таки нравилось: хорошие стейки, виноград, помню, нравился. А теперь всё это совершенно отпало. Жую, просто чтоб были силы.
— Ну ведь когда-нибудь ты чувствуешь голод, — растерянно настаивала она.
— Наверное… — неопределённо произнёс Богдан. — Но это проявляется как-то по-другому, не так, как раньше. Я просто слегка слабею и тогда понимаю, что надо что-нибудь съесть — всё равно, что.
— Чёртушка, вот и съешь что-нибудь, пожалуйста. Ну, за папу-за маму-за Просю — ладно? И не беспокойся, пожалуйста. Я всё улажу, — она прикоснулась к его руке. — Мы будем жить вместе, всё будет хорошо. Я разведусь с мужем; у нас нет несовершеннолетних детей, в этом случае предусмотрена упрощённая процедура, хотя вообще-то после революции новая власть развод усложнила. Я откажусь от раздела имущества, и Гасан с лёгкостью