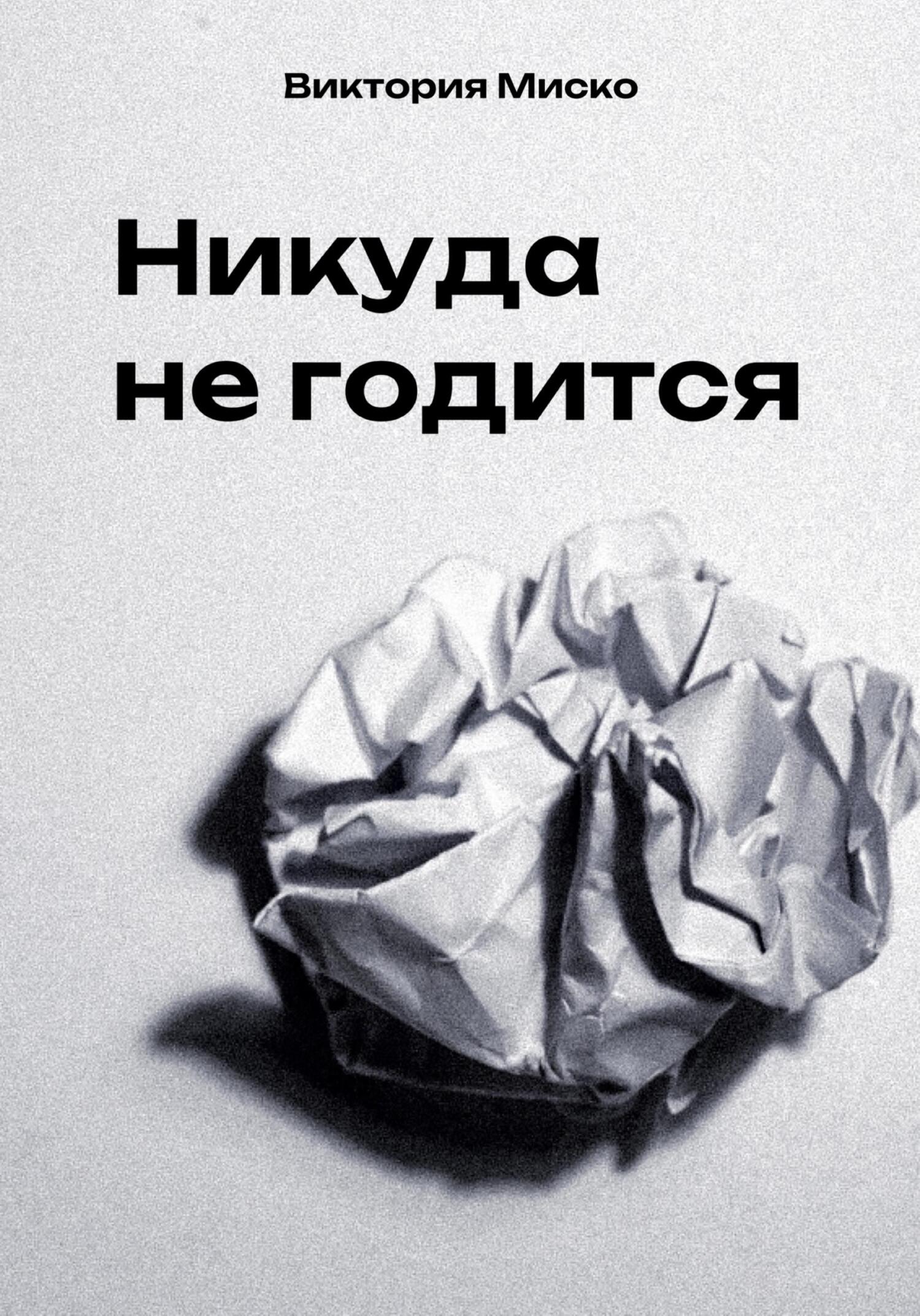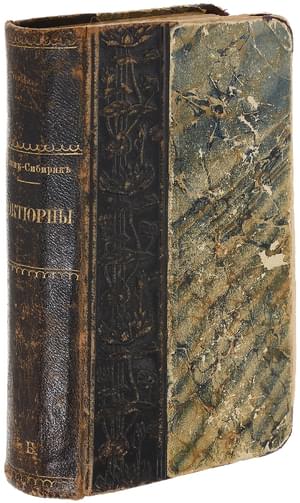одной ножке.
Все было бы хорошо, не будь у этой «медали» обратной стороны.
Больно и совсем не хочется вспоминать. Скажу одно – отец, построив дом, стал сильно выпивать.
Теперь вижу – происходило это от крутого поворота судьбы, непонимания и равнодушия окружающих. Ведь еще вчера он был асом, первоклассным пилотом элитной авиации, почти богом:
– Иван, ты только летай! Летай и возвращайся! А мы все для тебя сделаем! – напутствовал его механик, в сотый раз осматривая самолет перед вылетом. Желали мягкой посадки все – от официанток в столовой до начальника полетов, утверждавшего маршрут. И он поднимался в небо – улетал и всегда возвращался. Устало спускался по крылу самолета, бросал в руки техника потный шлем, немного свысока смотрел на всех вокруг – что уж там!
А тут вдруг – не нужен никому! Кабы знать об этом раньше, может, стоило и остаться? Например, в Риге, где так любили с маленькой дочкой бродить по городу:
– Папа, папа, смотри, оллы! – восторгалась Витусенька крылатыми скульптурами над фасадами домов.
Рига, июль 1954 года.
Можно было преподавать в училище, передавая опыт и знания молодежи, или в штабе – просиживать штаны, перекладывая бумажки. А может полетать еще годик – другой – командиром звена истребителей в родном полку на острове Эзеле? Что там говорить – варианты были, но уж слишком много ребят не возвращалось тогда из полета…
Невостребованность и безделье сделали свое дело – благо пенсия была приличной. Порой он умудрялся пропивать ее всю – на выпивку хватало – на еду детям не всегда. Помню, как мама, сдав пустые бутылки, наскребла нам с сестрой на две булочки.
– Мам, а тебе?
– Я не хочу, кушайте, девочки, – отвечала худющая мама.
Впрочем, пил не только отец – многие прошедшие войну были такими же. Да и мамин брат дядя Володя, выпивши, скандалил – думаю, виновата была война – со всеми своими ужасами – да на неокрепшие души двадцатилетних юнцов.
Отец же во хмелю был буйным и страшным. Помню, нам с сестрой и мамой даже пришлось убегать из дому и ночевать у соседей. Однажды, в пылу скандала мама схватила домашний тапок и отходила им отца по физиономии. Это надо было видеть! Отец был удивлен донельзя, нет, удивлен – это слабо сказано. Он был ошарашен, убит!
– Меня – майора! – пауза, потом тоном ниже, – Тапком, – пауза, далее со слезами в голосе, – по морде! – жалел сам себя вдребодан пьяный папаша.
Он возил нас на Сенгилеевское озеро – купаться, и в село Сергиевское – к родне. Как пахла там земляника, ковром застилающая лужок прямо за забором! Порой, укладывая спать, рассказывал о красивых облаках под крылом самолета, но его пьяные скандалы перечеркивали все хорошее, что он делал. И ведь людям ничего не объяснишь – кто не пережил подобного, тот не поймет…
Не знаю, где мама научилась так шить, но шила хорошо. Особым писком тогдашней моды были белые ажурные занавесочки, и она вышивала их на своей немецкой швейной машинке «Зингер». Многие соседки, восторгаясь, просили сделать похожие.
…Поздний зимний вечер. Мама еще на работе, а я стою у окна, выходящего в сад. Между двойными фрамугами лежит толстый валик светлой ваты, на нем рюмочка с крупной солью – чтобы окна не потели. На тонкой леске, на гвоздиках, прибитых прямо к раме – те самые занавески: поверху круглые фестоны, большая роза посередине, вокруг цветочки помельче, вырезанные маленькими ножничками – ювелирная работа!
Такие же ажурные узоры на стеклах – веточки и снежинки, нарисованные морозом, неповторимо завораживают.
Гашу свет, и маленькая комнатка расширяется до невообразимых размеров. Тонкая стрелка под моей рукой бегает по мерцающему табло радиолы «Ригонда» – Лондон и Москва, Рим и Варшава – сквозь треск помех так и манит в далекие края незнакомая речь.
… Парам-парм-парам -
Я девчонкой кружусь на лугу,
Парам-парам-парам -
Я к любви на свиданье бегу, – нет, это не сама Эдит Пиаф, но как похоже, как трогает за душу!
На письменном столе открытый дневник. Класса с седьмого пишу о подружках и друзьях, о том, что происходит в школе, во дворе, а порой даже о погоде:
…«Сегодня я была настоящей принцессой: утром, выйдя за дверь, замерла завороженно – весь сад стоял в хрустале! Деревья – большие и маленькие покрылись прозрачным льдом, тоненькие веточки, качаясь, касались друг друга и нежно звенели – динь-динь-динь! С замирающим сердцем, чуть дыша от невиданного волшебства, шла по знакомой улице и среди этого блистающего великолепия чувствовала себя принцессой»…
Чернильница-непроливайка из прозрачного стекла и тонкое перо «уточка» – а может «рондо»? – уже и не помню – обязательные атрибуты «писательской» деятельности. В другую тетрадку записываю стихи – они возникают сами по себе и сразу просятся на бумагу. Все это доставляло удовольствие и нравилось уже тогда. Ох уж эти таинственные зимние вечера – пора юношеских мечтаний и грез…
К каждому празднику мне шили новый наряд. Святое дело для мамы – платье дочери к празднику – сам процесс покупки ткани уже доставлял нам удовольствие. Но даже если это был всего лишь перешитый наряд, атмосфера праздника состоялась. Способ примерки прост: сметали, одели наизнанку, убрали все лишнее. Последняя строчка на швейной машинке – и готово!
…Как приятно шуршит блестящая парча – лиф в обтяжку, коротенькая юбочка-колокол – все коленки наружу…
Мама, избалованная бабушкой Галей, выросшая с нянечкой Феней, была, казалось, совершенно не приспособлена к бытовым трудностям жизни. Но трудности эти никуда не девались, и ей приходилось делать в нашем новом доме все – в том числе и топить печку. Представляете, какими будут руки после того, как выгребешь вчерашнюю золу и засыплешь новый уголек?
Перчатки? Да какие в те годы перчатки, о чем вы!
Но вот от печки пошло приятное тепло, котенок Михеля прыгнул в поддувало и пригрелся там, изредка подергивая спинкой, чтобы стряхнуть горячие искры, а мама села за стол и стала приводить в порядок руки. Мы с сестрой затаили дыхание: как много пузырьков с разноцветными лаками, разные кисточки, пилочки и щеточки! К этому великолепию нам было запрещено даже прикасаться. И так хотелось скорее вырасти, чтобы заиметь такое же богатство!
…В печке гудел огонь, серый котенок давно удрал из своего теплого, но теперь опасного местечка, нас уложили в кроватки, а мама читала свою книжку и любовалась новым маникюром.
Была зима 1957 года…
На лето меня