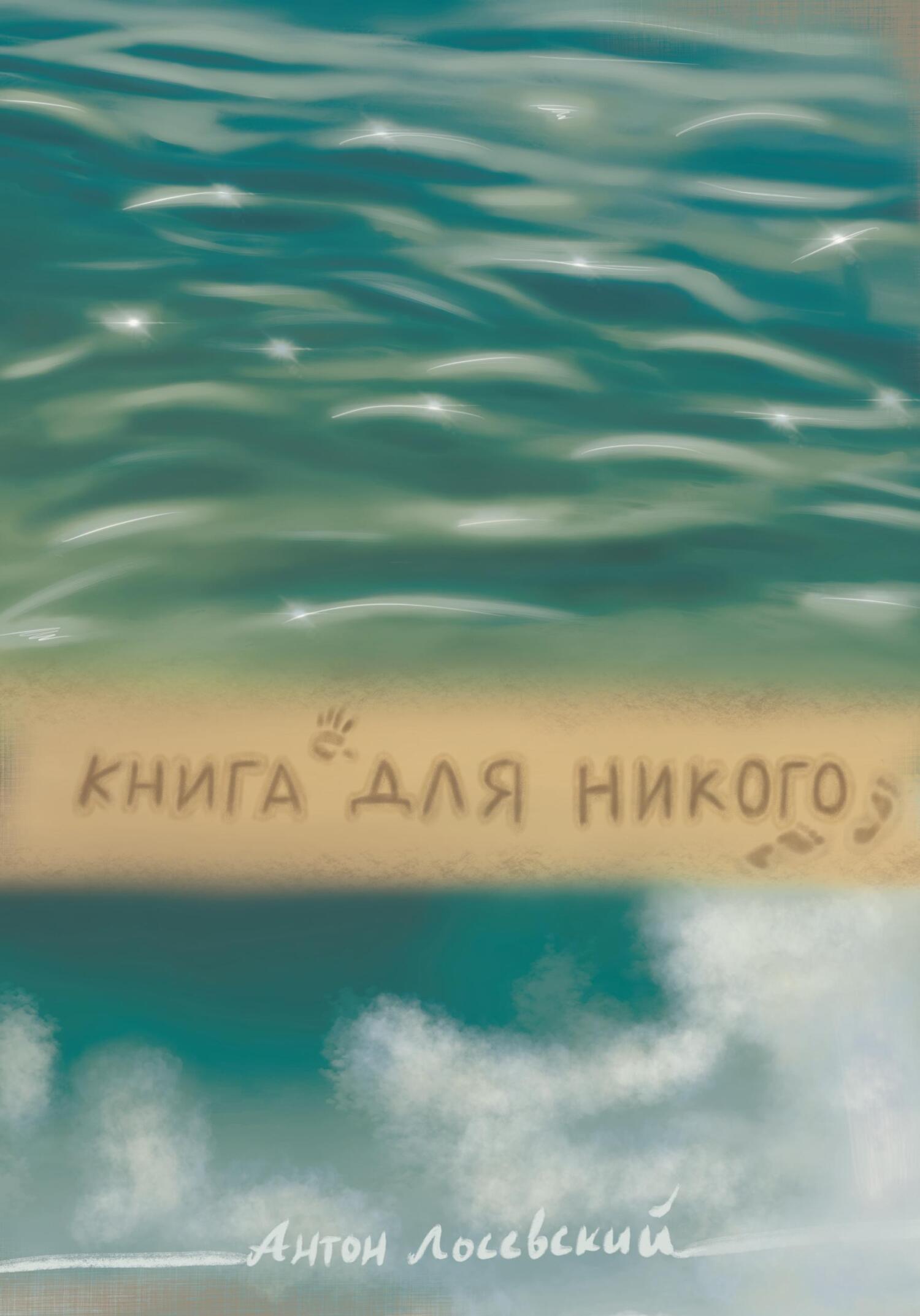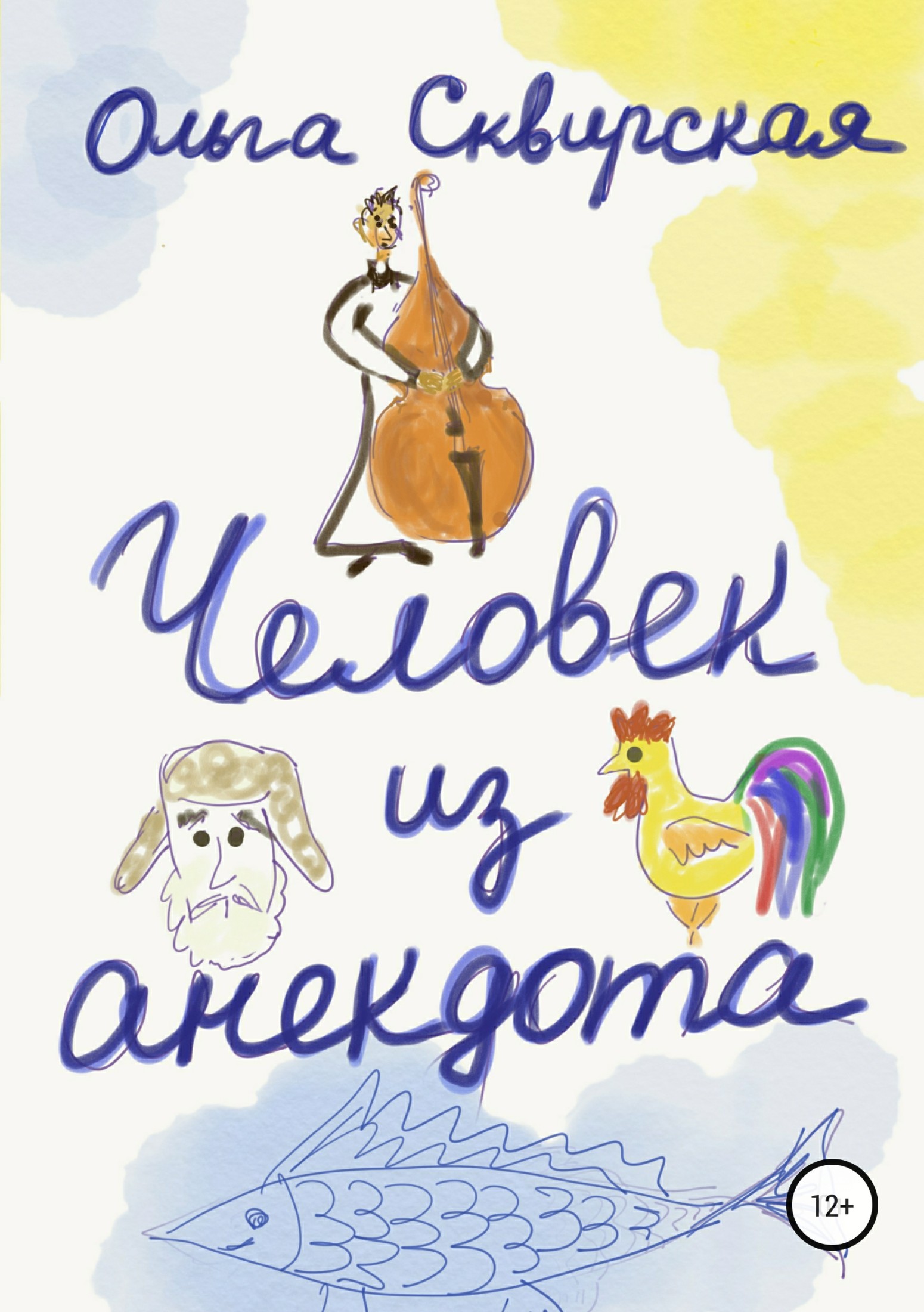поистине прекрасным – тихим, удивительного простора и как бы созданный для жизни, для вечного ее осуществления.
Тем более было странным и непонятным, что именно в этот день Корнилов почувствовал, что он чей-то враг.
И страшный враг-то, непримиримый!
«В чем дело? – не мог понять Корнилов. – Ну ладно, нынче я военный человек, я воюю, я готов в кого-то стрелять и согласен с тем, что кто-то готов стрелять в меня, как же иначе, но почему все-таки я кому-то враг на всю жизнь? Почему нет и даже не может быть такой самой ужасной несправедливости, горя и несчастья, которых от всей души не захотел бы пожелать мне мой враг?»
И ладно, когда бы так, когда бы его враги желали бы ему всего самого ужасного, а он бы им никогда! Однако пройдет нынешнее необыкновенно прекрасное утро, пройдут эти мысли и это недоумение, и вот он тоже пожелает своим врагам того же самого, обязательно захочет с ними сквитаться, с каким-нибудь, предположим, доцентом Московского университета, который сейчас не в городе Омске, а в городе Казани? Красные ведь только что взяли Казань, а тот доцент тоже красный.
Невероятно?
Вот он стоит на невысоком пригорке, справа величественное здание кафедрального собора, слева бывшее Степное генерал-губернаторство, на башенке легонько полощется флаг Временного сибирского правительства – белое с зеленым, и уже поэтому ты враг! Миллионам враг, на тебе форма офицера белой армии! И как это мирный и, казалось бы, такой справедливый человек может попасть в столь дурацкое, несправедливое положение? Да еще и по собственному разумению? Вот какой он сам себе устроил абсурд...
Единственный выход – прервать эту мысль. Он так и сделал. Он спустился с пригорка на мост через речку Омь, составленный из железных стержней, мост так и назывался Железным.
На левом берегу Оми, пониже Железного, пристань и два белых двухпалубных парохода-близнеца, на правом, противоположном берегу невзрачные кубические постройки городской электрической станции и ее же высокая труба закопченного кирпича, посредине неподвижная, бурого цвета полоска Оми – болотная и лесная вода, тут она и впадает в Иртыш. А Иртыш – это стальная гладь, широкая и стремительная. Легко угадывается его стремительность.
За Иртышом степь: что-то желтое с чем-то зеленым, так до самого горизонта.
Правда, в одном каком-то месте, в степи, вдали чуть видны белые постройки железнодорожной станции Куломзино, а в другом юрты киргизов – аул Каржас; в иртышской пойме и по суходолу киргизы пасут кобылиц и все лето торгуют кумысом на омском базаре.
Куломзино и Каржас – других следов человека на той стороне Иртыша нет, и горизонт чист, огромный полукруг, по которому земля смыкается с небом.
Небо над степью белесо-прозрачное, оно и вовсе отсутствует, всмотревшись же, можно заметить в нем серые, непостоянных очертаний тучи, которые двигаются а стороны, припадают к степи и снова поднимаются в небесную пустоту. Это косяки перелетных птиц, им предстоит путь все вверх и вверх по течению Иртыша – в Джунгарию, в Китай, может быть, в Индию...
За мостом Любинская – главная улица города, крупные камни мостовой, огромные витрины, верхние этажи зданий с узенькими оконцами, что-то московское, Неглинная, Большая Никитская, Кузнецкий мост, только без трамваев. Любинскую пересекает сумрачный переулок, серые и тяжелые здания, самое капитальное – страховое общество «Саламандра», а это уже нечто петербургское. Пятая или Шестая линия.
Солдатики и нижние чины, тут много их толкалось на людной Любинской, Корнилову козыряли торопливо, так повелось с тех пор, как в 17-м году приветствия младших чинов старшим были отменены и осмеяны, а в 18-м введены в белой армии снова. Были два-три таких солдатика, которые недвусмысленно опять напомнили Корнилову: «Враг!» Такой у них был взгляд.
Корнилов же стремился нынче своими глазами и как можно лучше увидеть генерала Бондарина, и вот она кончилась, короткая улица Любинская, ступени вверх – двадцать одна ступень, потом еще два-три красивых здания, городской театр-ампир постройки конца прошлого столетия, очень похожий на театр в Одессе, и тут же раскинулась огромная площадь, заполненная войсками.
Парад!
Хорошо были одеты войска – в английское сукно, которого в русской армии никто и никогда отродясь не видывал, и строй ровный, хороший строй, оружие новенькое, тоже хорошее; бодро оркестр играл «Коль славен». Все хорошо, то есть точно так, как и должно быть на параде.
Во всех улицах, которые выходили к площади, произошло скопление экипажей и пролеток, в них сидели, а в некоторых, чтобы лучше видеть, и стояли граждане и гражданки двух видов – местные и эвакуированные из России.
Местные были посытнее, пополнее и попроще – купечество, чиновный люд, а также врачебная и прочая интеллигентная публика с тем, однако, оттенком провинциальности, который определить нельзя, но и не заметить тоже нельзя; эвакуированные были потощее, побледнее лицами и тем более позначительнее.
Тут, на взгляд Корнилова, не обошлось дело без петербургской, московской, казанской, киевской, харьковской профессуры, без нижегородских, самарских, воронежских коммерсантов, без владимирского и прочего духовенства.
Только что газеты сообщили, что в Сибирь прибывает 20 000 семей российских беженцев, люди умственного труда, и, если требуются частным предпринимателям, кооперативным, общественным и государственным организациям какие угодно специалисты, пожалуйста, стоит подать заявку в письменном виде в ближайшую городскую управу, тут же явится интеллигент с самыми скромными требованиями: какая-нибудь комнатенка, какое-нибудь жалованье. Ему не до жиру, быть бы живу.
Тут, в толпе пеших и экипажных, было, наверное, немало и представителей этих «двадцатитысячников», они глядели на площадь с особой надеждой и радостью. Корнилов даже сказал бы «с радостию!»
Парад!
В чем, в чем, а во всякого рода парадах на всем протяжении бывшей Российской империи публика издавна была достаточно просвещенной, но от парада нынешнего, в сибирском городе Омске, неожиданно объявленном российской столицей, не у одного, видно, Корнилова, но и у многих граждан щемило сердце – всем хотелось жить в эти минуты радостно, но далеко не у всех этак получалось. Даже при избытке энтузиазма.
Непривычными были русские солдатики, одетые в шинели английского сукна, и дамы не знали никого из начальственных особ, расположившихся особой группой на площади, ближе к зданию театра. Нет, не знали. А ведь начальственные особы кому-кому, но дамам-то порядочного общества должны быть известны?! Так уж заведено, тоже давний порядок.
Порядок нарушен, и бестолково велись разговоры... «А это кто? Ну, третий в первом ряду? Уж не япончик ли какой-нибудь? В очках?» – «А это, дорогая моя, действительно японский