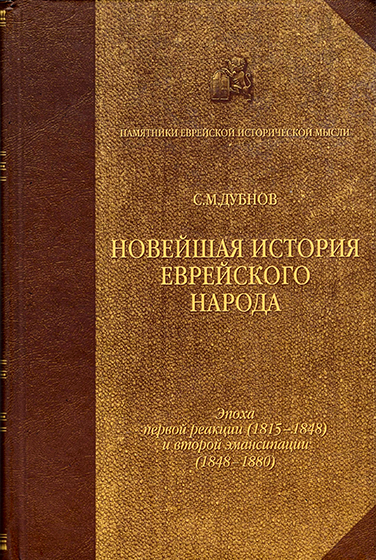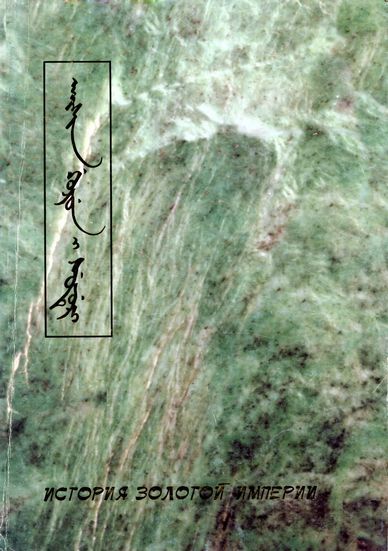голода, не было времени для лечения психически травмированных людей – шла война.
Только через двадцать лет психиатры и психологи начнут интересоваться, какое же влияние оказала на нас война, они будут изучать нас и описывать, и удивляться, как мы жили все эти годы – как будто они сделали крупное научное открытие. Но и в самом деле пройдет много-много лет, прежде чем память войны уйдет на второй план.
Я ошибся, написав, что для меня война кончилась в январе, когда сбежали немцы. Она не кончилась и тремя днями позже, когда я обменялся несколькими словами с советским офицером в штатских полуботинках. Для нас война не кончилась даже 7 мая 1945 года, когда генерал Альфред Йодль подписал акт о безоговорочной капитуляции или 2 сентября 1945 года, когда капитулировала Япония.
Мы, избранные, должны жить со своей памятью. Для меня было неожиданным, когда через пятьдесят лет воспоминания о пережитом проснулись с новой силой. Наверное, это произошло потому, что наше время на исходе, каждую неделю становится все меньше и меньше живых свидетелей. Поэтому на закате дней мы чувствуем потребность рассказать о нашей судьбе и надеемся, что наши свидетельства будет невозможно отрицать или оставить незамеченными. Кто-то из нас пытается написать об этом, кто-то рассказывает по радио и телевидению, выступает в школах – мы надеемся, что дети запомнят.
Я надеюсь также, что когда никого из нас не останется в живых, найдутся люди, которые скажут – да, мы видели одного из них, мы слышали его рассказы и мы верим, что это правда.
После войны
Атгтестат
Прошла неделя.
Я решил попробовать поступить во Вторую государственную гимназию Трауготта. Перед войной считалось, что это лучшая в Ченстохове мужская школа. Когда-то Сара мечтала, чтобы ее старший сын учился именно в гимназии Трауготта. В лагере, пока я корпел над своими учебниками, мне тоже представлялось – после войны я пойду именно в эту школу. Гимназия Трауготта на месте, но единственный человек, кого я там нахожу – импозантный сторож. Он, несмотря на недоступный вид, очень приветлив и добродушен – каким и должен быть сторож в хорошей польской школе.
Своими ежедневными вежливыми, но достаточно назойливыми посещениями я, по-видимому, завоевал его расположение. Он, как и раньше, ворчит, что школа еще не открыта, что записать меня в ученики пока нет возможности, но все же пропускает меня к преподавателю, ответственному за подготовку школы к занятиям.
И я наконец вижу гимназию изнутри.
Мой энтузиазм нисколько не уменьшается от того, что помещение выглядит запущенным и требует ремонта. За время войны в генерал-губернаторстве обветшали все дома, за исключением тех, где жили немцы. Мы проходим несколько лестниц и извилистых коридоров, пока сторож не приводит меня в сравнительно теплую комнату. Здесь сложена хорошо сохранившаяся удобная мебель темного дерева, на двух стенах висят портреты бывших директоров, а на третьей – большой красно-белый польский флаг с орлом в короне, презрительно косящимся на полированный письменный стол с аккуратными стопками бумаг. За столом сидит пожилой седоватый человек в когда-то элегантном, а теперь изрядно потрепанном черном костюме, белой плохо выглаженной сорочке и сером галстуке. Он настроен серьезно и дружелюбно.
Первый школьный учитель, которого я вижу после войны, смотрит на меня устало, но с любопытством. Себя не называет, просто сообщает, что он учитель математики, что мы находимся в будущем кабинете директора, но директор еще не назначен. Его, похоже, привлекает моя страсть к учению – не так-то часто в наши дни, добавляет он. Но мне лучше успокоиться. Мне обязательно сообщат, когда школа откроется и начнется запись учеников.
По моей просьбе он с удивлением просматривает табель с оценками после окончания второго класса Еврейской гимназии. Но меня больше всего волнует, как он отнесется к моим неофициальным, написанным от руки справкам о подпольном образовании. Он говорит, что сейчас не может окончательно высказать свое мнение, но думает, что таких справок с разных неофициальных курсов будет много, и что он не видит причин отвергать эти подписанные известными и компетентными преподавателями документы. Мне следует прийти опять, но не раньше, чем через неделю – требуется какое-то время, чтобы набрать учителей, учеников и начать обучение.
На выходе сторож подробно расспрашивает меня, чем закончилась беседа.
Вторая государственная гимназия Трауготта начинает работать через неделю – удалось собрать превосходных учителей, да и в учениках недостатка нет.
Тот, кто хочет в Польше получить хорошее образование, должен после шести лет народной школы четыре года проучиться в гимназии, а потом два года в лицее, чтобы получить аттестат, дающий право поступления в высшие учебные заведения. Мои справки приняты во внимание, и я начинаю учиться в первом классе лицея. Тем не менее учеников, которые раньше не учились в гимназии Трауготта, предупреждают, что в процессе обучения их знания будут подвергаться переоценке. Не исключены переводы в другие классы – с повышением или с понижением.
Тридцать первое января 1945 года, первый день в школе после войны.
Я прихожу в класс в замшевой курточке, найденной в подвале на улице Гарибальди, и толстых фланелевых брюках. Я одет хуже, чем мои одноклассники. День начинается с молитвы. Я стою, как и все, но молчу – я не знаю католических молитв, к тому же это не моя молитва. Потом начинается первая перекличка.
Она продолжается довольно долго, потому что необходимо восполнить недостающие сведения о новых учениках. Среди всего прочего – обязательный в Польше вопрос о вероисповедании. Большинство в классе – католики, один протестант. Когда очередь доходит до меня, классный руководитель подсказывает: римско-католическое.
Нет, протестую я, я иудейского вероисповедания. На какую-то секунду учитель теряет дар речи, но потом берет себя в руки и аккуратно записывает мое признание в журнал. Оказывается, один из учеников в классе – еврей. Многие смотрят на меня с любопытством, но мне плевать, что думают мои одноклассники и хотят ли они иметь еврея в своем классе.
Начинается период добровольного отшельничества. Конечно, я не могу совершенно избежать встреч с людьми, но я не особенно вежлив, стараюсь скорее уйти от разговора – даже дома. Родители, как мне кажется, понимают меня, они, скорее всего, даже испытывают симпатию к моей ненасытной жажде образования, несмотря на то, что я так небрежно отношусь к своим близким. Единственное, что мне интересно – учителя и школа.
Я мало сплю, быстро и нерегулярно ем, могу заниматься ночь напролет, чтобы потом, поспав часок перед рассветом, бежать в школу. Я