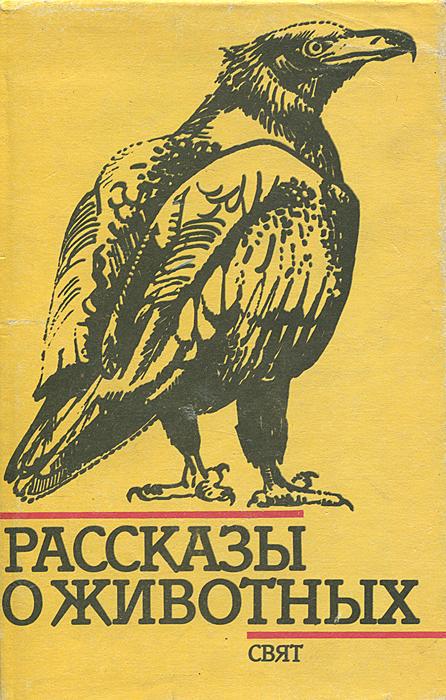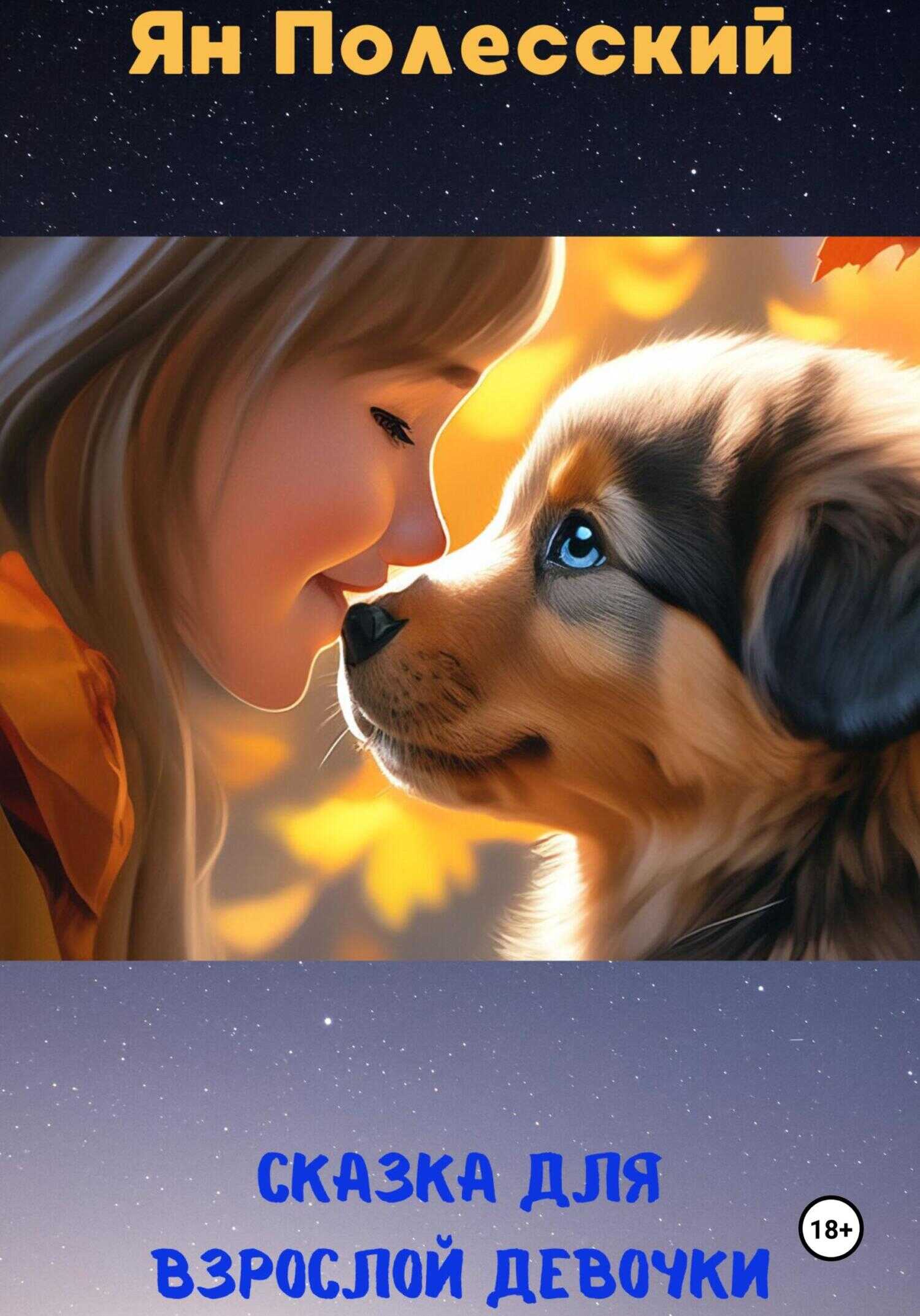города судорожные завихрения благодаря светилу небесного акушерства оживали и долго не желали рассасываться в окружающей мгле. Анемично озарённые горожане тылового фронта жили упорно, в спазме, малосодержательном и приятном, как зевок.
До вечера бродила Сольмеке по городу, до вечера не было бомбежек. На улице, завидя красноармейские патрули, она на всякий случай оголяла грудь, совала её младенцу в рот, ойкая, когда тот прикусывал пустой сосок. Кормить же бутылочкой заходила в глухие дворы и подъезды. Если правда, что Москву в целях обороны собираются затопить, думала она, разглядывая очередной рисунок в подъезде рядом с Маяковской, я, наверно, смогу стать водяной девой, как Ксения Годунова. Сольмеке вспоминала, как глубоко ныряла в озере Икуль, широко загребая ногами и какая сладость шла от жабры меж ними, будто та вдыхала вместо кислорода какую-то брагу из прелых водорослей. А Дир снова сомлеет, как в утробе, присосавшись к моему соску, из которого он, кажется, уже вытянул юшку. Сольмеке сморщилась. В подъезде был такой же прелый запах. Дома эти у Садового кольца, возможно, были больные черепахи, по древнему инстинкту рождавшиеся на берегу бывшего моря и, хотя оно давно ушло под землю, в первые детские, пахнущие известковой скорлупой, годы благодаря генетической памяти в них сохранялась гулкая акустика и играло итальянское солнце. Потом все глохло, мутилось и они продолжали существовать уже какой-то не своей жизнью, дрожали перилами и оставляли в подъездах резкие лужи. Сольмеке послюнявила ватку, приложила к саднящему месту. Уже стемнело. Она вышла из подъезда и подошла к лотку с припозднившейся мороженщицей. И тут снова завыла сирена. Сольмеке побежала к станции.
Утомлённое солнце русской поэзии закатилось по чёрному Ахерону на станцию метро Маяковского. Вылупился век мой на полную пломбира (ведро 48 коп!) усталую пассажирку. Ужасная духота в парадном бомбоубежище. Последний, до отбоя, посинелый поезд теребит зевок Авроры Кагановича, не жаждущей греческого неба. И год здешним, маяковским, искусственным сирены бьются в упоенье: Не ну-жен им бе-рег туре-цкий! 30 метров собственного археологического слоя поют своё отечество, республику свою. С 5-30 до часу. И ночью, во время бомбежек. Всеми костьми. Отрекаются от старого мира. Мечтают выпасть поющими парашютистами с плафонов на москвичек-вотячек, свернувшихся на холодном полу станции. А вот и новая перронная Даная с описанным рюкзаком и в платье-матроске — воронка Мёбиуса сталинского медвежьего парадиза. В месте выверта под толстыми рейтузами Москошвея остался шерстяной лоскуток медвежьего духа — бражного амурчика, распиравшего Сольмеке, как куклу-монгольфьерку, оперным энтузиазмом нового, лучшего мира — метрополитена. Москвичка-вотячка прикрыла медвежий срам человечьей тельняшкой кого-то из призраков местной метрополитен оперы. Завывай, Васёк, остаток аксессуара, в хоре счастливом! Кажется, это твою плоть увезла она в подземном трамвае. Сюда, в подземелье уехал и прочий скарб — окрестные слободы-селенья, лютики-цветочки, шкаф многоуважаемый продребезжал. Остались сны, попытки привиденья клинописью Валтасара скрежетнуть по молоточкам в табакерке, в кукле с иным набором хромосом: — таким как ты я был, таким как я ты будешь, — и надежда вцепиться подзаборным шиповником в медвежий рай.
Подзаборный сокол обоссанный, ворчал себе под нос очкастый Огр, подобрав Васька (у которого на вокзале было нечто вроде свиты из местных шелепиных, так что когда по наводке очкастый приехал его забирать, тот уже был в состоянии положения риз) и транспортируя его по тайной линии метро крытой спецдрезиной на конной тяге с парой красноармейских лакеев спереди и парой сзади. Метро-конка действовала с 1902 г., обозначенная на кремлёвских схемах буланым цветом. Депо: Библиотека Грозного. На станции Сокольники лошадей выводили попастись. Под мавзолеем копыта обували в резиновые накопытники. Огр, правда, всегда сворачивал и на открытую линию, на Маяковку, на спецсмотрины в душное, ножом режь, укрытие. Вот они, раскинувшиеся, в белье с начёсом, ивановская текстильфабрика, распахнутые, раскрасневшиеся. Вздрогнул потолок от авиабомбы. Вскинулось бледное лицо. Младенец отрыгнул Сольмеке молоко на шею, быстро стынущее. Едкая прохлада поползла по коже, будто за спиной навис мертвый эсэсовец, парашютист с потолка-кладбища. Вот она! — замычал Васёк. Приметное платье-матроска. Огр поднял палец. Тормозной визг дрезины вобрал в себя гул бомбоубежища. Наглухо. Прислушавшись, можно было бы различить лишь некие пошёптывания, потрескивания, поговаривания, будто кто-то сунул микрофон в самую гущу гигантского муравейника. Четыре лакея сошли на перрон, оттолкнули всех, лежащих и сидящих кругом указанной Васьком девушки, меткими ударами сапогов прихлопнули излетающего в испуге амурчика, двое взяли Сольмеке под локотки, третий нагнул голову, а четвертый, вытащив из рюкзака младенца и держа его одной рукой, обернулся к перронному народу, поводя другой рукой с автоматом. Втащили в кабинку дрезины, та тронулась, дверь захлопнулась и Сольмеке сразу получила две оглушительные затрещины. Фальшивая кормилица! Дуришь всех! Диверсантка! Держите её, олухи! Ты и с ней пропульсировал, сокол Василий? Пленница скрипнула пылкой табуреткой, к которой Огр пристегнул её солдатским ремнем. Голова сокола гудела. По ангельскому времени весь мир уже пропульсировал с небожителем танго рюсс. И такую недотрогу обнаружь — беспортошная роза ветров! Солистка песни и пляски имени Александрова. Однако что же она так верещит? Если прислушаться, все женщины там, в потайном месте, звучат. А у неё там купальский пляс. Поджилки у неё трясутся. Вот о такой эоловой арфе мечталось Ваську-небожителю, где девичья честь резонирует! Иногда Курский вокзал, медвежий угол в узорчатой Московии, где и в помине таких неприступных не было — осадный арбалет! Строптив, как мозговая излука. Вот и взрябил рябиновое лукоморье залётного, из Качинской лётной школы, зрачка! И потянул Эол упругий, как дуб зелёный, косу златую! Наглую бабью упряжь летучей памяти — королевны беспамятства и московских распутиц! Как же ты мне знакома. Не из александровского ансамбля ты, хористка наверно пятницкая, что ж верещишь-то как птица. Возлюбленная — всегда на высоте птичьего полёта, оттуда душевные струны — как девичья тетива Неглинки-амазонки! Но этот Огр тюремный наверняка затащил нас в какой-нибудь погреб. А сколь заносчивы рубиновые кончики потешных кремлей, какие сердце-яблочко мнительной девы должно взметнуть над Лобным местом! "Рюриковичи!" — презрительно шипит мой рябой сухорукий папа. Главный Эол — укротитель. Накрывавший Москву салютом, как рубиновым клобуком! Но посмотрим! Меня та же мечта возносит. Рваная ряса выпускника Качинского лётного училища — самозваными крыльями! Раскинет смутный ветер над Лобным местом монашескую заносчивость масштабными прелестями московского ландшафта! Черня на нём потаённый для низкого глаза рисунок на коже вот таких вотячек! Полячек! Васёк застонал. Что поделаешь, Кремль с вотячкой-полячкой не по карте берутся, а приступом, ощупью по рельефу. А рельеф любой местности находится где-то на ближних или дальних