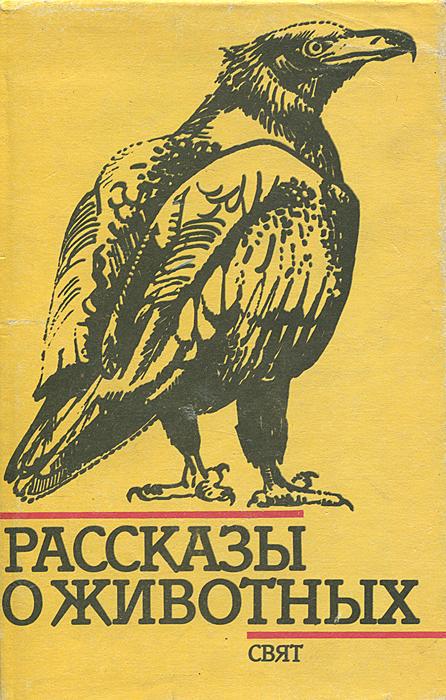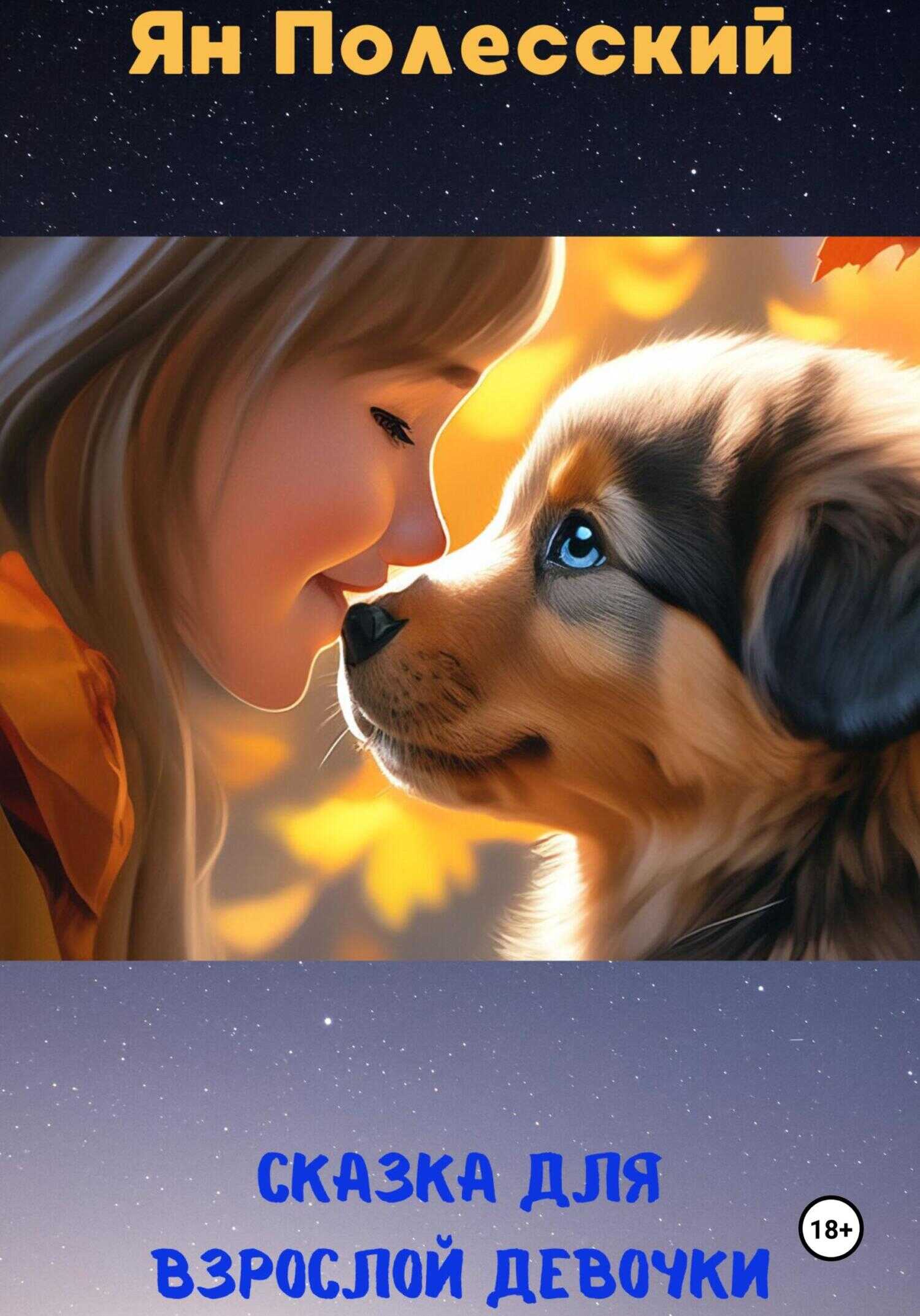угрюмые подростки, варившие на бульоне из монеток травяную лапшу. Под их глиняными взглядами платье Сольмеке истлевало, обваливалось кусками, сверкало прорехами так же, как и архитектурный корсет многопупого, как колониальная красотка, Царицыно. В каждой скорлупке тамошних гротов и арок коренилась балетная ножка куцей розы ветров, чьей шипастости хватало лишь на оголенные девичьи укромности да на скрипучий луч в древесных гуслях, смущавших весь усадебный кордебалет — ветреный розарий, просветлённый эрозией неба, нахлобучившего на неевклидову, с мокрым спиногрызом, балетмейстершу каракулевую пастораль.
Если же Сольмеке решала не рисковать двумя задницами среди пубертирующих аборигенов, то ехала на утренних поездах на север, до Люблино, где просоленный и просмоленный, помпейский бал пропитывал дурасовский дворец с разлапистой балюстрадой непроницаемо для туристки с младенцем, голоного щурившей тёмную шёлковую гладь облегающих прудов пока не сверкнут декольтированные волны с фрачными, насыщенными табаком и гаммами щепками морёного дуба, что ждал Ассоль со свинцовыми губами. Или на юг к Щербинке, уже ближе к вечеру добираясь до остафьевской усадьбы, похожей на запруженную колоду, в бок которой, трясясь и отплёвываясь, вгрызалась облезлая бумагопрядильня, будто водяная крыса, чующая, что под дубовой трухой треснула и хрустальная призма, отчего местная панночка даже в лунных бликах казалась раскрашенной безбожной штукатуркой из колхозного клуба в скособоченной колокольне.
Что касается общения с другими людьми, то теперь, после нквдешного цирка с налитыми кровью глазами, её зрачок моментально лопался, выпуская воздушную рессору из уменьшавшихся отражений любого чужого зрачка, отодвигая его владельца в неразличимую даль. Лишь однажды, в местном сельпо, этого не произошло. В тёмных зеркальцах продавщицы, протиравшей бочку с нераскупаемой чёрной икрой (водруженной — во время войны — во многих простых сельпо) не было никакого отражения. Пустыми глазницами уставилась она на умоляющие, настырно являвшиеся глаза под шоферюжьей кепкой. Колхозный лихач в единственном местном грузовичке раздавил её пятого сына Юрика, просто желая попугать на пыльном проселке. Однажды в пригородном поезде Сольмеке услышала и слова мужа продавщицы, хромого старшины толстовского вида, возвращавшегося из фронтового отпуска: — Чтобы не проклинал нас всю жизнь! Именно поэтому не стали они обвинять этого шофера, именно поэтому являлся он в сельпо мучить мать умоляющим взглядом.
Впрочем, однажды Сольмеке, приспособив младенцу подгузник потолще, отправилась-таки в город. И чем ближе к Курскому вокзалу, тем тяжелее становился состав, будто грузил Сольмеке не только собственный мертвец, но и отжитое неведомых людей и вещей привязывалось к ней тонкой, дождевой проволокой со всех концов окружающего города, пока не началась болтанка и от вибраций покрытого блёсткой броней поезда посыпались мраморы сталинского ампира, обнажая арматурных горгулий железнодорожного пандемониума, на чьём противне и парили новоприбывшая с сосунком, точно пирожки разносчицы, от которых блестел взгляд какого-то, из нестьимчисла на здешней паперти, нищего обрубка. Влюблённого или опьянённого. То есть из небожителей! С пасмурным, падшим на город мозгом. Я, наверно, воплощаю его чкаловское воспоминание, думала Сольмеке, постепенно удаляясь и время от времени продолжая жаркими, в лодочках, пятками выковывать из падкого лба гвозди цветастых представлений, что и эта вокзальная баба в платье-матроске, как и все они — подворотня, один взгляд на неё — шаг к смерти, и что все как чеширские коты улыбаются в этой подворотне. И что хорошо бы её в эмочку, как это делает папин очкастый огр, а младенца на кухню, в тарасовский особнячок, и что надо бы мне поправить штаны, мокрые от гонореи. Представления быстро темнели, но не рассасывались, вбитые в расслабленную голову падшего на город прохожего. Из выпускников Качинской летшколы. Коих смутными временами роза ветров, миазмов и шанелей мухосборочно являет воронам и воронкам у девяти вавилонских ворот, а особенно у Савёловских и у Курских. Экая серость вокруг. Экая серость у меня в голове, думала Сольмеке. Я, наверно, Жанна Дарк ангела-хранителя этой столицы Москошвея. Наделяю её обитателей столбняком, делаю крепостными, скрюченными в суконных мешках, как этот вшивый васёк. Ан нет, у него мокрые лампасы. Отпраздновал сталинский сокол. Судя по волчьему амбре, у вышеупомянутого обрушились своды черепа и все видения, включая дня и ночи, лишились цвета и границ. Скрепы суток распались. На грязном Курском вокзале Васёк обмирал здешним миром, смертными обмерами, именем. Аммиачные испарения напоминали об ореоле небожителя над соцстройкой, цепеневшего в прорези ласточкиных хвостов фрязского архитектора горнего мира. Истекли вонючие радужки, семафоря воздушную тревогу. Тайм-аут. Когда полетели зажигалки, как инсультные искры, Сольмеке, вскинув круп с навеском, побежала к ближайшей станции мелкого залегания. Прильнув к перрону, падший в городской обморок вслушался, как мигреневым импульсом рванул поезд, перенося в себе его небесные воспоминания — хозяйку солнечных мечтаний с прохладным младенцем за спиной. Пленница возвышенного мозга, пропиталась она его густой кровью, и если бы не мимолетная пьета к скрюченному ваську, тоже всплеснула бы в нём инсультной звездой. Зародившееся сердцебиение затемнило сухие, как болячки, глаза, снесло с надменных, над военным бытом, высот, внутренним прибоем метнуло в городскую подкорку. Владелица горней кафедры стала смиренной сестрой упорного милосердия, вдавившего её люминесцентной инъекцией в подземную артерию. Дёргалась в метро, бередившем нервы и нервюры раненных бараков и пролеткухонь, что хранили, впрочем, затемнение. Ибо любая попытка оживить Васька, прояснить ушибленные московские трущобы, замершие в тревоге, в радужные победного ума палаты, блудилась крововертью васькового воображения и в реальности только роила мглу. Предположим, у вас не мозг, а философский метеор. Влюблён, возвышен, вигиен, вигающ. К сожалению, от падения в московскую слякоть мельчает он глинообразно. А как не меси слякотную, как в лагере, глину, мудрый град из неё не собьёшь. Да и в распластанных жилах небожителя тёк уже не эликсир жизни, а болотистая жидкость. Отсего и поблёк цвет лица заявившейся вдохновительницы болотного дурмана. Васёк наслаждался. Мерцающее падеде с младенцем озарялось сталинским парадизом метроубежища, но после отбоя, вне надышанной призмы соцреализма, наверху, на вещбазарах, площадях, в магазинных полуподвалах, кривилось базарными, площадными, подвальными пассами, о которых сама дева с мокрым горбом себе отчета не давала, двигаясь, как марионетка, пронизанная, вместо ниток, потоками испорченной васьковой крови. Былое вдохновение всей небесной сферы вздымало по-татарски низвергающиеся в военный город девичьи груди. Осовелые гарпуны в запруженной бабьими судьбами осадной осени. Их ягодные, взлелеянные бестелесными лабораториями, кончики трескались, пускали яд, сунувшись под горячую руку. Чья это манипуляция? Трамвайного ли хама, мимолётного ль жигана? Была ли разница между марионеткой и мастерицей, светилом своего дела, руководимой свыше? Изнурённо двигаясь в судорожном тёмном окружении, Сольмеке, казалось, взвихривала светомаскировку словно наводчица. Впрочем, это оперативное вмешательство. Губительные для