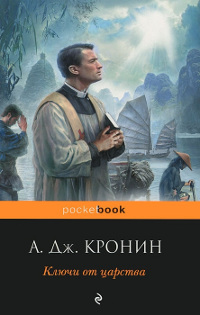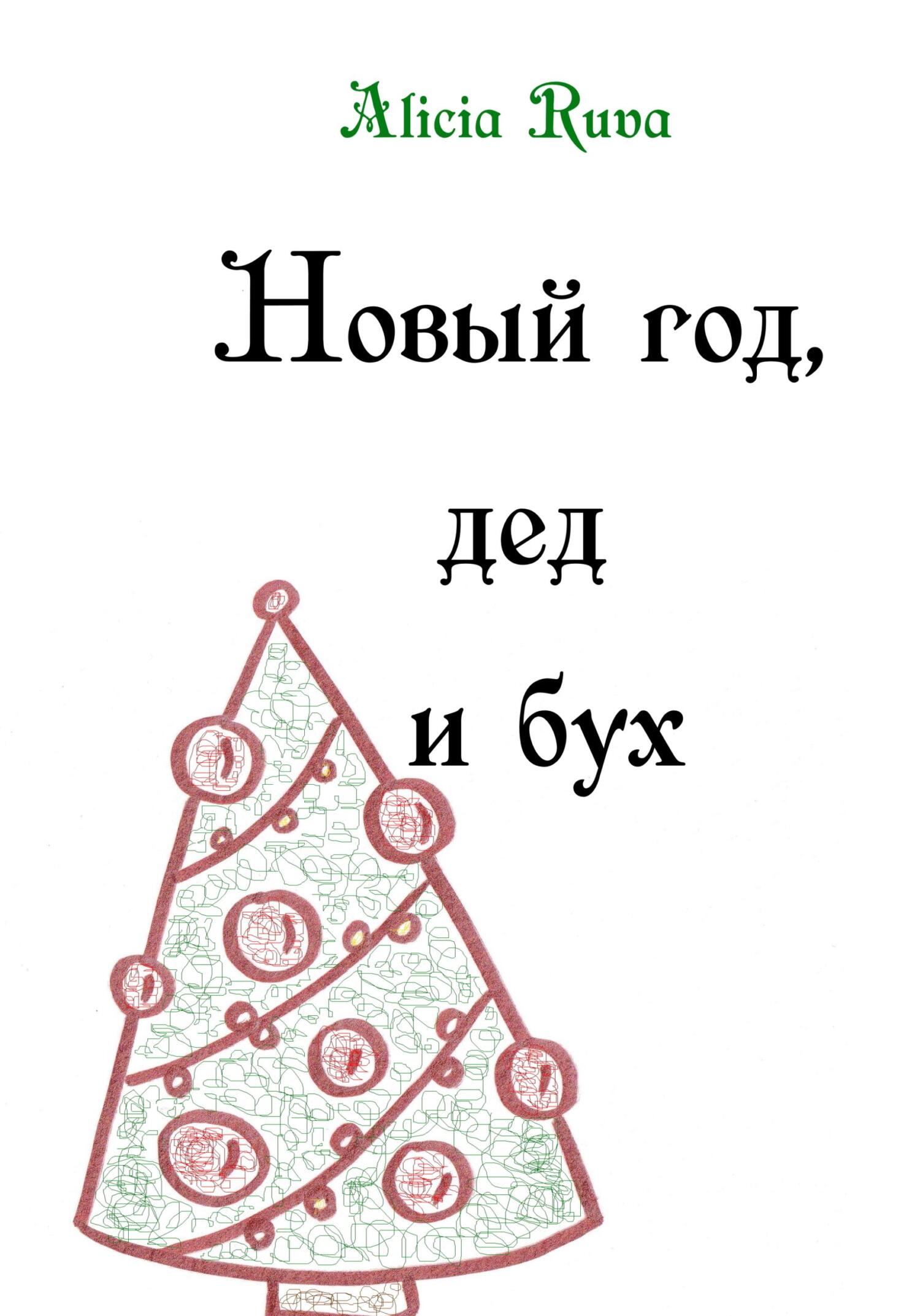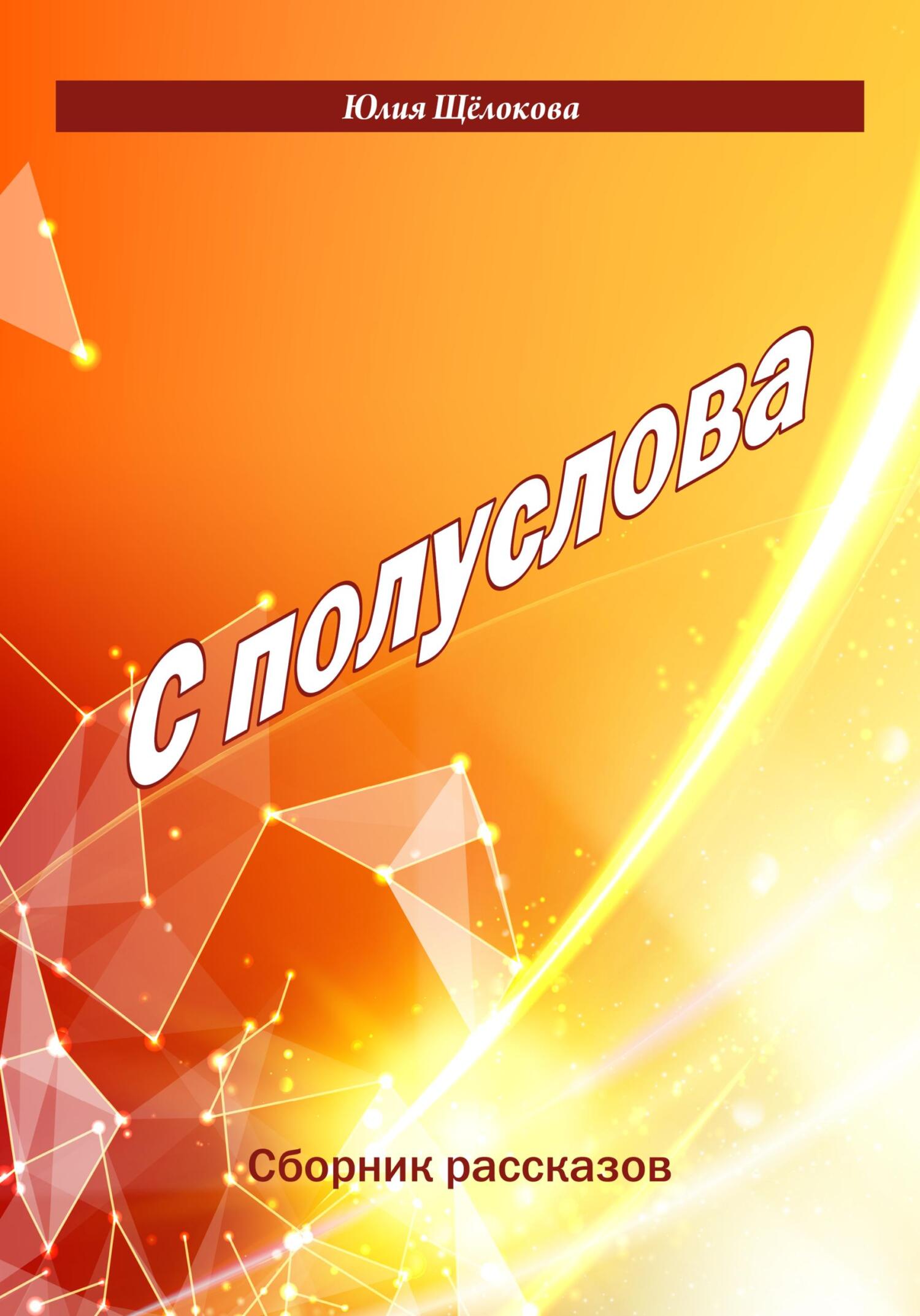и пошла по этому лесу, как раньше ходила: сперва дорогой мимо дуплистой ивы, затем тропинкой через березовый глушняк, потом свернула с тропинки вправо и очутилась под тремя дубами. Эти дубы были не просто дубы, а давние ее знакомые. Под ними она отдыхала всякий раз, когда собирала грибы или просто так бродила по лесу. Когда-то давно, еще в детстве, она придумала им свои прозвища. Самый большой и корявый дуб звался Дон-Кихотом, рядом с ним маленький, коренастенький — Санчо Пансой, средний — Разбойником. Дон-Кихот и Санчо Панса стояли рядом, так что кроны их сплетались меж собой, а Разбойник чуть поодаль и всегда шумел листвой, даже тогда, когда вокруг было безветренно и тихо. Просто характер у него был такой шумливый.
Здесь, у трех дубов, Дианка любила посидеть, помечтать. И мечтала она тогда о светлом городе, о высоких домах, о нарядных витринах, о море огней и о том, кто живет в этом городе. Не о всех людях, нет, об одном, одном-единственном, который и не знает о ней, и, может быть, так никогда и не узнает.
«Вот странно, — думала она сейчас, — под дубами я мечтала о городе, в городе мечтаю о своих дубах. Где вы, мои Дон-Кихот и Санчо Панса? Охраняет ли вас дуб Разбойник?»
Она так ясно представила себе их, что услышала тревожный говор листвы над головой. Открыла глаза, а это машина прошла под окнами, прошуршала шинами и обдала воздух гарью бензина. Тогда Дианка встала и пошла, будто ее кто позвал. Встретилась на лестнице комендантша тетя Маруся, спросила:
— Ты куда?
— Туда! — махнула неопределенно рукой и вышла на улицу.
На тротуаре у гастронома продавали газированную воду, и, хоть было еще довольно холодно, люди стояли в очереди и пили. Постояла в очереди и Дианка. От ледяной воды резко заломило зубы, но в теле будто прибавилось бодрости, и она уже решительнее двинулась дальше.
У нее было такое чувство, словно она знала, куда ей надо идти. И' она шла. Вот центральная площадь с памятником Ленину, чистая, подметенная, с полосками пробивающейся сквозь квадраты бетона травы, вот вход в парк с огромной чашей громкоговорителя, вот памятник героям войны 1812 года — в вечерних лучах солнца крест на его верху так и золотится, вот пруд с плавающими на воде лебедиными домиками.
Раньше ведь их тут не было, вспомнила Дианка, а пришла весна, пригрело солнышко, и выплыли лебеди на радость людям, словно из волшебной сказки.
Рядом с прудом высилась старинная крепостная стена, и в воде она отражалась еще ярче, чем наяву. И по ней, прямо по крепостной стене, плыли лебеди. Лебедей было немного, но среди ослепительно-белых, как загадочный принц, плыл один черный, важный и неприступный.
Люди шли, останавливались на минуту, глядели на лебедей и проходили мимо, лишь один человек стоял долго-долго, словно что-то высматривая. Дианка обошла пруд и остановилась напротив человека, чтоб поглядеть, что он там высматривает. А человек ничего не высматривал, он рисовал. Наверное, черного принца.
Темнело, и от воды поднимался прозрачный, чуть заметный для глаза туман. Человек, наверное, тоже видел это, туман ему мешал, и он нервничал. А может быть, он нервничал потому, что кто-то за ним наблюдал?
Дианка не стала мешать человеку и отвернулась. Она глядела на воду пруда и думала, что в Веселых Ключах туманы совсем-совсем не такие, а густые и тягучие, как молоко. Хаты в таких туманах плавают, как в океане. Не мудрено и заблудиться. Однажды она шла в клуб на танцы, а попала в сельсовет.
Сегодня воскресенье, и девчонки тоже отправятся вечером на танцы. Усядутся вокруг гармониста Василия Степановича и будут сидеть. Ведь Василий Степанович новых танцев не знает, а девчонки старые танцы танцевать не хотят. Так посидят, посидят и разойдутся. Разве если только кто захватит с собой транзистор? Тогда уж Василию Степановичу ничего другого не останется, как уйти со своей гармонью куда-нибудь под липки. Там у него своя компания — постарше. А в клуб они не ходят принципиально из-за этих «голоколенных». Разве в платьях дело? На Дианкин взгляд, лучше было, если б люди ходили, кто в чем хочет, зато говорили бы друг другу одну только правду. Тогда б и жизнь наладилась. Систематически. Она вспомнила деда Тараса, как он, уже мертвый, сидел и грелся на солнышке, и вдруг почувствовала, что в этом воспоминании не было горечи и боли, как раньше, лишь тихая благодарность за то, что он жил на земле, такой добрый, отзывчивый, веселый.
«Ты, внучка, лучше самою себя обидь, чем другого какого человека. Потому, что рана от обиды на всю жизнь не затягивается».
«Его, наверное, самого в жизни не раз обижали, — думала Дианка, — раз он так глубоко чувствовал чужую боль». А еще она думала, что хорошо бы и ей так жизнь прожить, как прожил дед Тарас: достойно и систематически.
Стало совсем темно. Тот человек, что рисовал, сложил свой мольберт и ушел. Чуть погодя Дианка тоже отправилась домой, и, хоть ничего-то, собственно, не случилось, ей казалось, что произошло с ней что-то хорошее. Будто побывала дома, в Веселых Ключах.
Теперь, когда выдавалась свободная минута, она часто бегала к пруду у крепостной стены. Здесь все напоминало ей родную деревню: и эта тихая, словно зачарованная вода, и ракиты над водой, и особенно тишина — чуткая, умиротворяющая.
Два раза она видела того художника. Он стоял на своем обычном месте и рисовал. Дианка все-таки выбрала момент и, проходя мимо, будто невзначай взглянула на эскиз. Нет, на нем не было черного лебедя, а билась о берег старая деревянная лодка. За лодкой виднелся горбатый мостик, а по мостику бежала коза. Дианка удивилась: горбатый мостик был, и была лодка, но где художник нашел козу? А та бежала себе, задрав вверх голову, и будто дразнилась: бе-э-эээ!
Дианка не удержалась и прыснула. Художник обернулся.
— Это смешно? — спросил он, нахмурясь.
— Ну, конечно.
— А мне казалось — грустно.
Дианка покраснела.
— Может быть, и грустно, но коза… Разве козы бывают грустными?
У художника был крутой лоб с нависшими бровями, но из-под этих мрачных нависших бровей глядели молодые синие, удивительно доверчивые глаза.
— Ах, коза…
Он отставил мольберт и присел на борт покачнувшейся лодки.
— Коза — это мое прощание с детством.
Было похоже, что это он не ей объяснял, а разговаривал сам с собой:
— Это ведь сейчас здесь все позастроили, а совсем недавно вот здесь, за крепостной стеной, я пас козу.