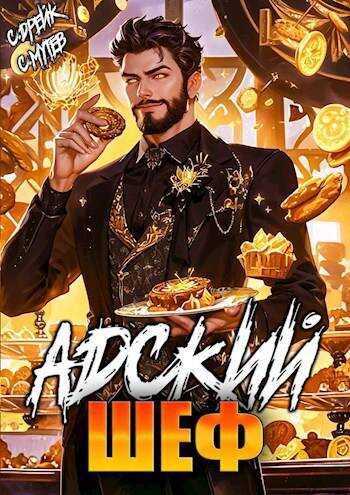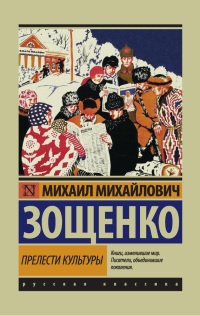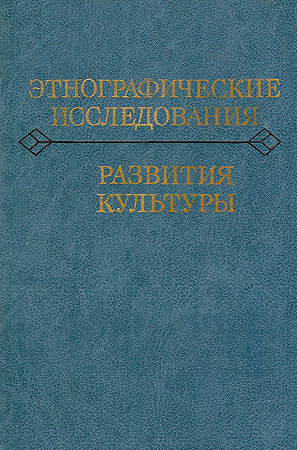восприниматься как нечто само собой разумеющееся и когда прет-а-порте стремительно завоевывало свои позиции, – что, однако, не помешало Пенну на протяжении всех этих лет питать особую привязанность к уникальным, сшитым вручную нарядам, по крайней мере в тех случаях, когда он мог выбирать. Мартин Харрисон, специалист по истории модной фотографии, сделал интересное наблюдение. Он полагает, что та поразительная интенсивность, та внутренняя энергия, которая стала фирменной чертой фотографий Пенна, не была характерна для модной фотографии вплоть до 1950-х годов.
Эти женщины в эксклюзивных платьях были таким же исчезающим видом, как и «глиняные люди» Асаро, и Пенн изображал их ровно в том же духе, что и представителей этого первобытного племени.
Это говорит нам о многом. И всё же – как объяснить особое впечатление от фотографий Пенна? Я думаю, его можно объяснить тем, что Пенн подходил к изображению нарядов высокой моды как художник-модернист. Пенн модернизировал модную фотографию – тогда как само содержание этой фотографии принадлежало старому миру. Прежде всего, он очистил фотографию от нарративного и сценографического элемента, присущего традиционному подходу к изображению наряда. В конце концов, остались всего четыре элемента: женщина, наряд, свет и фон. Простота фотографий Пенна была столь же новой, сколь и радикальной.
Затем, Пенн создавал фотографии как «вещи в себе». Он создавал «чистые» изображения и предоставлял зрителю «чистый» визуальный опыт. Именно так нужно понимать любовь Пенна к графичности, черно-белой гамме, геометричности. Эти контрасты, несомненно, усиливались во время проявки фотографий. Два прекрасных тому примера: фото «Платье „Арлекин“» (1950) и «Женщина в шляпе от Dior и с бокалом мартини» (1952).
Как никакой другой модный фотограф, Пенн работал над эстетизацией опыта, уже являющегося эстетическим, – или, если угодно, над созданием изображения, эстетического и коммерческого одновременно. В творчестве Пенна модная фотография приобрела автономность. Теперь она могла покинуть свой контекст – страницы журнала Vogue, например, – провозгласить республику и дальше существовать самостоятельно. Ей больше не интересны какие-то иные варианты. Каждая фотография – первая и единственная.
4
Нет ничего удивительного в том, что визуальный мир Пенна притягивает внимание. Глядя на его фотографии, легко ощутить стремление художника к чистому созерцанию, восприятию ради самого процесса восприятия. И в известном смысле это парадокс, потому что модная фотография представляет собой коммерческое изображение, а значит – по своей природе нацелена на определенный результат.
Стремление к чистому восприятию характерно для большинства произведений модернистского визуального искусства; то же стремление было свойственно импрессионизму, но также и Баухаусу, и прочим направлениям в искусстве начала ХХ века. Эти художественные поиски особенно ярко проявились в натюрмортах Пенна. Предметы предстают сами по себе, вне контекста, передающего их назначение и способ использования. Предметы отображаются как сущности, будь то покрытая изморосью замороженная стручковая фасоль или выглядывающая из тюбика алая губная помада. Даже косметические продукты Пенн умудрялся снабдить особой аурой, не прибегая ни к каким дополнительным приемам, кроме своей обычной объективности, – что видно, например, в рекламных фотографиях для Clinique: никаких лиц, только флаконы с косметическими продуктами, иногда слегка сбрызнутые водой.
Есть мнение, что фотографии полураскрошенных сигаретных окурков и смятых сигаретных пачек, подобранных в канаве (фотопроект Пенна 1970-х годов), стали своего рода передышкой от царящих в мире моды требований совершенной красоты и коммерческой выгоды. Наверняка так и было. Но можно также воспринимать эти фотографии как естественное развитие эстетики Пенна. «Если вы смотрите в камеру и видите что-то, что уже видели ранее, не трогайте кнопку спуска затвора». Фотографии окурков – это триумф восприятия ради восприятия. Они говорят о способности художника видеть мир таким, какой он есть, видеть каждую вещь, каждую мелочь, на которую раньше никто не обращал внимания; о способности выйти за пределы привычного восприятия и абстрагироваться от целей и средств. Нужно смотреть на реальность так, словно видишь ее впервые. И тогда она станет новой. Когда обычный репертуар предметов для натюрморта иссякает – что рано или поздно происходит, каким бы изобретательным ни был художник, – можно обратить взор в канаву и порыться в мусоре: это сулит удивительные находки во имя новизны. Так старое, изношенное, отвергнутое становится визуально интересным или даже красивым. Но свежесть мусора тоже не бесконечна, и в конце концов новое вынуждено кусать себя за хвост. Чем дальше, тем труднее понять, что заставляет фотографа нажать на кнопку спуска.
На протяжении всего ХХ века было сделано немало попыток освободить визуальное восприятие и перевернуть с ног на голову иерархические конструкты истории искусства. Кубисты стремились воскресить все те вещи, которые стали невидимыми из-за того, что на них смотрят каждый день: чайные чашки, столики в кафе, газетную типографику… Они думали, что возможно изменить мир, воспринимаемый с точки зрения утилитарной пользы, путем развития чисто эстетического отношения к этому миру. Но возвышенные мечты модернистов о чистоте, аутентичности и автономности вскоре отправились в музей – или были поставлены на службу обществу потребления. Свидетелями этого процесса были Пикассо и Брак. Модернистский дух, который привел Пенна к проекту с фотографиями окурков, изжил себя. Он рассеялся в мире коммерции и рекламы, то есть как раз там, где изначально сформировалась эстетика Пенна.
Тоскливо было бы на этом поставить точку, и я не собираюсь этого делать. Жажда стиля, характерная для творчества Пенна, видна всякому, кто смотрит на его фотографии, равно как и его строгость и перфекционизм. Но, как обычно, всё не так просто. Велико искушение назвать Пенна фотографом-эстетом – конечно, он таковым и был, но в то же время многие его поздние фотографии в Vogue (я имею в виду прежде всего те, что были сделаны в 1990-х годах как иллюстрации к статьям о косметических средствах и пластической хирургии) несут в себе некую неуловимо отталкивающую ауру, которая выглядит как насмешка над самим духом журнала. На самом деле это качество присутствовало в творчестве Пенна всегда.
Он также сделал фотопортрет Синди Шерман. Это было в 1997 году, Пенну исполнилось восемьдесят. Это была необычная встреча. Как же поступить фотографу? Использовать знаменитую угловую композицию?[111] Или дать только лицо крупным планом, как на портрете Трумена Капоте? Где таится правда о Синди Шерман? В глазах? В порах ее кожи? Или, может быть, в одежде?
Итак, Ирвинг Пенн против Синди Шерман. Два фотографа, работающих главным образом для женской аудитории. Но на этом сходства и заканчиваются. Легко было представить, что из этой затеи ничего не выйдет. Пенн – модернист, Шерман – постмодернистка. Он всегда стоит за камерой, она – одновременно и за камерой,