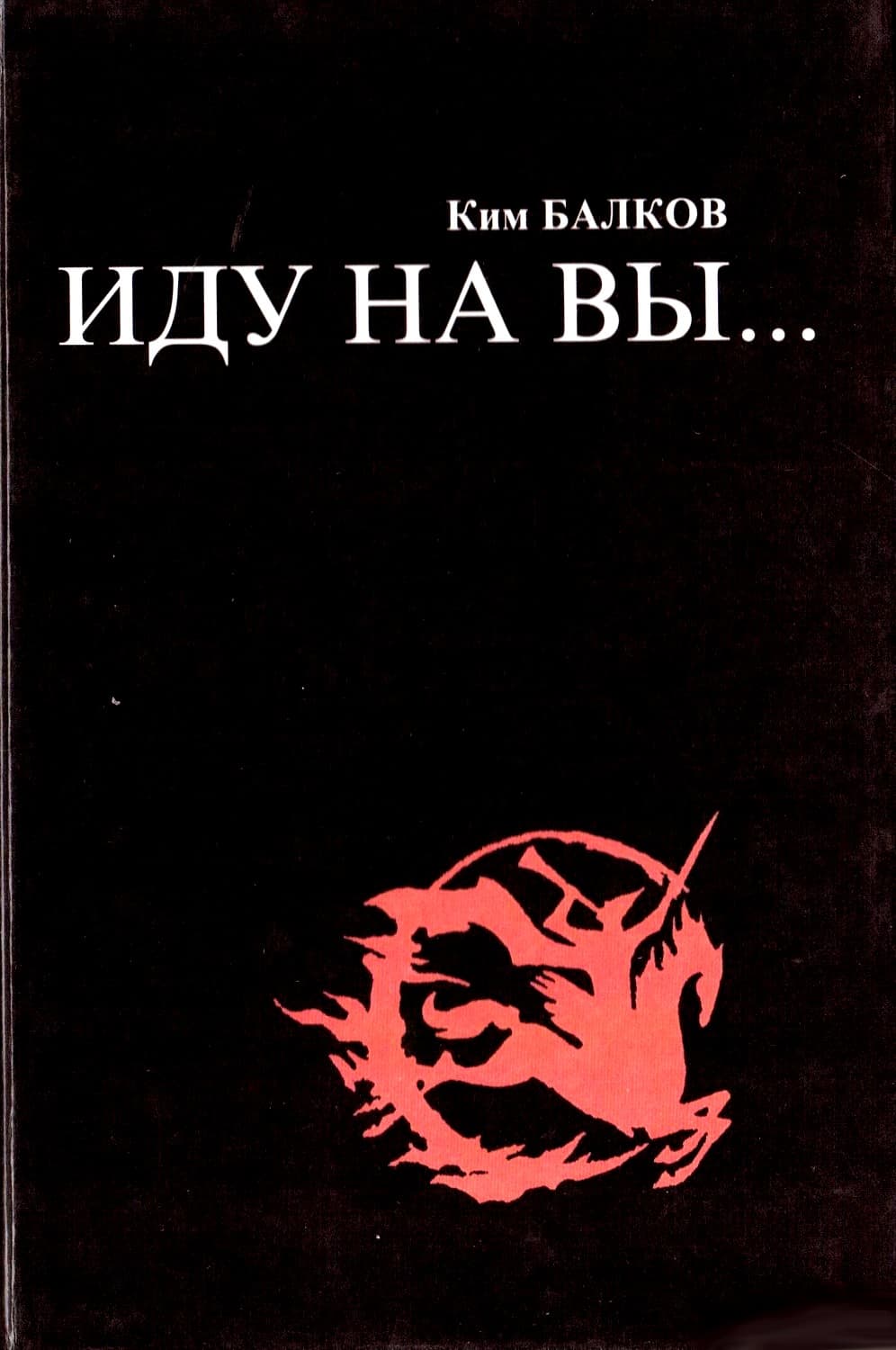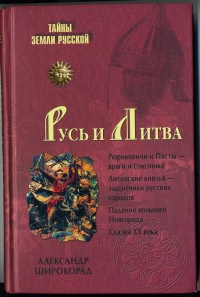и говорили про это и нередко помогали смертно болящему или потерявшему в себе от всесветного Духа и заматеревшему в несчастье, так что время спустя тот снова обретал утраченную тягу к жизни.
Варяжко не однажды оказывался тому свидетелем и воспарял вместе с волхвами в Духе и наблюдал от всемирного Разума и Любви, и тогда прежде угнетавшее отступало, а на смену приходило чувство высокое и светлое.
С первой звездой подуставшие за долгий день оратаи ушли в домы, уселись за столы и потянули руки к горячим оладьям. А старший волхв с отроками и отроковицами и с теми мужами и женами, кто не торопился на свои подворья, поднялись на горушку, обильно поросшую низкорослым лесом и воззожгли священный Огонь. И, чуть отступив, со вниманием смотрели на него. И дальнее, от дедов и прадедов, виделось им, что-то не имеющее ни начала, ни конца и каких-то определенных форм, все же обретаемое в Духе, а потому живое и трепетное, управляющее осыпаемыми окрест искрами, которые подобно мотылькам прежде чем угаснуть были подвижны и веселы и вполне отвечали душевному настрою, что теперь преобладал в людях.
Взыграли бубны и гудцы, принесенные добрыми молодцами. Отроки и юные девы, вытянувшись в длинную цепочку и стараясь не поломать возникшей очередности, начали прыгать через костер. И коль скоро кому-то это удавалось лучше, чем другим, уже испробовавшим свою удалость, то и радости его не было предела. Скоро это, казалось бы, давно привычное действо захватило всех, даже люди постарше не утерпели и пристроились за отроками. Оказался среди них и Варяжко. Он хотел бы, чтоб и Прекраса испытала себя, но та засмущалась и отбежала к ближним деревцам, и уже отсюда, смеясь, наблюдала, как заметно поседелый муж ее прыгал через костер. И радость, что жила в сердце, стала больше, ощутимей. «О, Боги! — шептала она. — Как хорошо!..»
Меж тем на небе возгорели еще звезды, сияющие и горделивые, много ярче той, первой… Но Прекраса упорно искала ту, единственную, и, если находила, торжествующе восклицала:
— Вот она! Вот!..
Скоро возле нее оказался Варяжко, он устал, но был доволен собой.
— А не пойти ли нам на наше место?.. — сказал он. — По-моему, самое время.
Она не возражала.
Тропа привела их к истоку Воложи; река тут вроде бы еще слабосильна, русло ее, извилистое и узкое, часто пропадало в заболотьях, иногда сплошь покрытых камышовыми зарослями. И, когда бы не знать про них, можно было подумать, что Воложа здесь завершает свое продвижение, разбившись о заросли. Но, слава Богам, это не так, стоило пройти еще немного, и снова проглядывала серебряная хребтина реки. Она тут, вобрав стоялые воды, пропахшие травами заболотья, как бы начинала обретать силу, наблюдаемую в ней при впадении в Хвалисское море! Да и недалеко отсюда в землях кривичей и — далее — муромы широка Воложа и привольна, властно притягивающа к себе каждого, в ком течет русская кровь, точно бы она знает про ближнее родство с русским человеком и берет немало и от него, тоже непоспешающего, коль скоро дело заладилось, прозревающего про свое назначение быть на земле благо дарующим и малой травинке, понимать про повязанность с нею и со всем миром. Не будь этой повязанности, душа его ослабла бы и уж не вмещала бы в себя столько пространства. И, слава Богам, что этого не случилось и, надо думать, не случится в обозримое время.
Варяжко и Прекраса еще долго шли по тропе, пока она, огибая черно поблескивающую болотистую воду, не взяла круто вправо. Тут они остановились и увидели себя на берегу, невысоко взнявшемся над рекою, поросшем мягкой шелколистой травой. Окрест, несмотря на то, что миновала макушка ночи, было светло, видать, от звездного сияния, а может, от Воложи, которая излучала слабый и тихий отблеск. Но, скорее, от того и другого сразу, а еще оттого, что на сердце у них тоже было светло, отчего мнилось, что и от них исходит сияние и сливается с небесным, а еще с тем, от реки… И, понимая в себе это, они не хотели бы неосторожным словом потревожить в душе и молчали. Взявшись за руки, они смотрели на речные волны, прислушивались к их перешептыванию, сначала тихому, а по мере того, как усиливался ветер с низовьев, все более быстрому и веселому. И вот, когда в реке совершилось преображение, когда она вся покрылась рябью, на сердце у Варяжки с Прекрасою тоже поменялось, там сделалось не так ликующе, хотя свету не убавилось. И тогда они посмотрели друг на друга с нежностью, а потом спустились к самому урезу воды и, наклонившись, черпая ладонями, стали жадно пить. Время спустя, уже сидя на берегу, Прекраса увидела в волнах шитый цветью платок и воскликнула:
— Глянь-ка! Что там?.. Ну, да, конечно… Наши девы начали ворожбу. Раньше и я пускала свой плат, привязав его к кораблику вместо паруса. Надеялась, ты выловишь его и придешь ко мне. Я так долго ждала тебя.
— И я пришел…
— Боги указали тебе дорогу ко мне.
Они не часто говорили об этом, привыкли к тому, что слово свято и прибегать к нему надо лишь, когда необходимо. Всуе брошенное слово нередко оборачивается злом, и коль скоро вернется, то и обеспокоит, и долго еще человек не поймет, почему вдруг все опостылело и не греет душу?..
Река шумела, волновая рябь, серебряная от небесного света, усиливалась, но это не влияло на глубинный покой ее.
Так и было. И все же… все же что-то тревожащее, правда, слабо и меркло, нет-нет да и отмечалось на сердце у Варяжки и Прекрасы. И, наверное, поэтому они не удивились, когда раздвинулись кусты и к ним подошел отрок и, обращаясь к Варяжке и, смущаясь оттого, что вынужден потревожить его, сказал:
— Светлый князь ждет тебя, воевода!
5.
Владимир ходил с войском к Порогам. Была у него договоренность через посольских людей с кесарем, что там он встретит порфироносную Анну со свитой. Опасался властитель Царьграда быстрых на расправу печенегов, которые чаще у Порогов нападали на гостевые суда, груженные заморскими товарами, отбивали их, а людей брали в полон. Велика степь, попробуй отыщи своего ближнего, сестру ли, брата ли, если даже мошна у тебя не пуста.
Владимир разбил стан на каменистом берегу как раз там, где все еще сохранялись следы от табора Святослава. Вдруг да иной из дружины отыскивал в высокой траве поржавевшую кольчужку или потемневший от долголетия шелом, весь