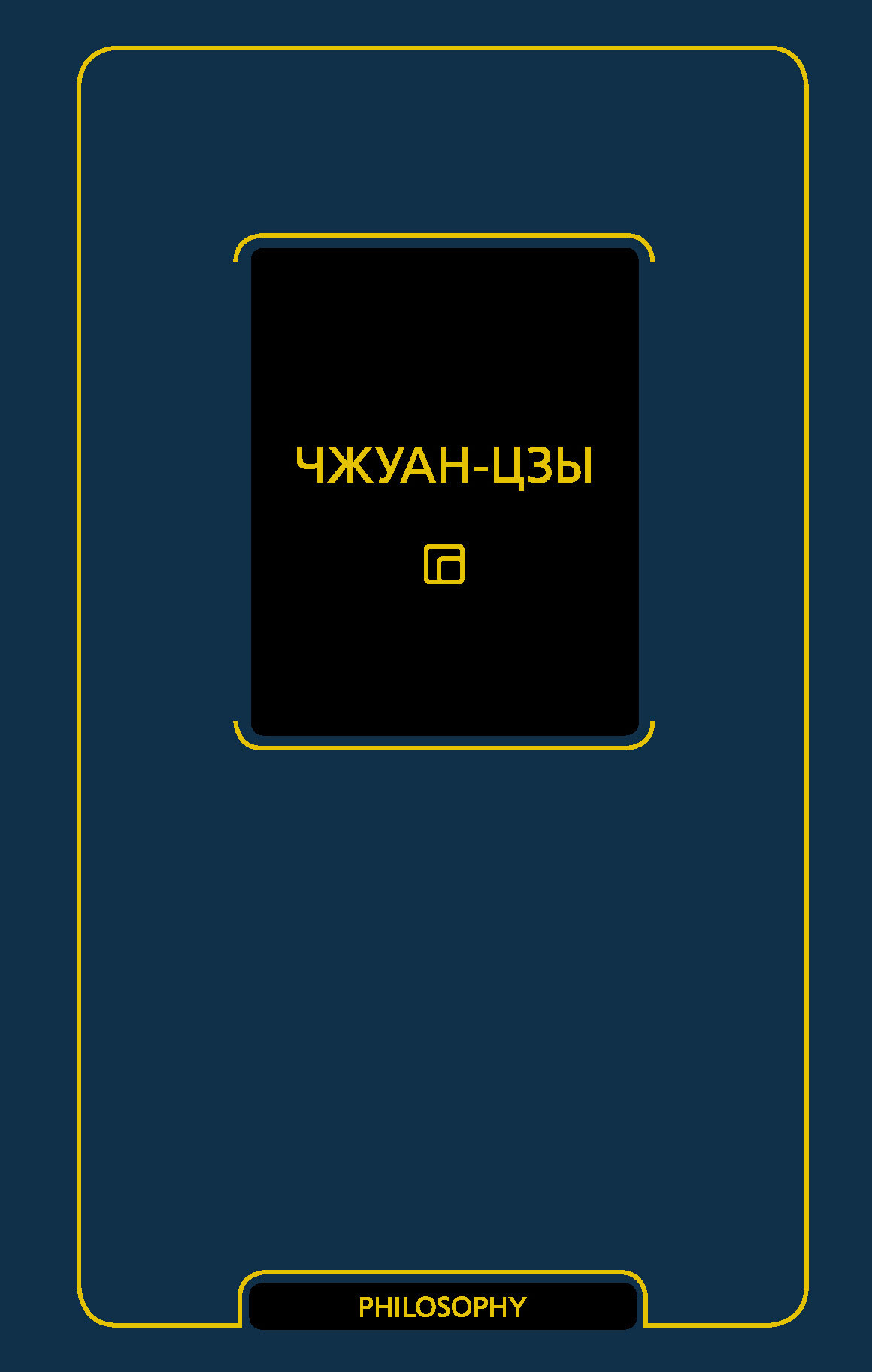прославления свастики и срабатывало на том же уровне. Провокация Изу была способом привлечь внимание, это был аргумент, что в мире, принимаемом без вопросов, одна диктатура сменяет другую, это свидетельствовало о неподдельном заигрывании с фашистским упразднением пределов. Результатом стала возросшая известность и возросшее число адептов.
Изу издал книги о театре, о себе, о любви: последняя называлась “La Mécanique des femmes” («Механика женщин») и в 1949 году превратила его имя в пароль на Левом берегу. В предисловии Изу более или менее открыто давал повод полиции к своему аресту (брошюра, по сути, была пособием по сексуальным практикам), заявив, что уверен в том, что полиция не станет его арестовывать, — в конце концов, он ведь уже выпустил гораздо более подрывной манифест, призыв к «Леттристской революции»! Министр внутренних дел клюнул на наживку: он запретил книгу и арестовал Изу. Приведённый к судье, Изу заявил, что его работа является «полезным содействием в образовании молодёжи»; судья проигнорировал сократову иронию и отправил Изу к психиатру. Тем временем «Механика женщин» вышла на первое место в хитпарадах чёрного рынка.
Проведя часы в “Tabou” — когда заканчивал играть джаз-банд Бориса Виана, когда Сартр, Камю и Мерло-Понти ковыляли домой, а Жюльет Греко скрывалась из виду в ночном мраке, — Померан забирался на столы, бил в тамбурин и декламировал буквенную поэзию. Он пускал шляпу по кругу пьяных туристов и отдавал эту выручку Мессии. В других кафе работа продолжалась более серьёзным образом. Следуя механике изобретения — и, таким образом, если исполнялись все правила, по определению творя культурную историю, — леттристы превращали свою постдадаистскую буквенную поэзию в поэзию «эстапеиристскую»3, поэзию последнего элемента, протоязык, основанный на лингвистических частицах, «не имеющих прямого смысла, где каждый элемент существует в той мере, в которой позволяет вообразить другой элемент, пока несуществующий, но возможный», — типичная математическая формула Изу, вскоре давшая впечатляющие результаты.
Они заменят визуальное искусство и повествовательную прозу метаграфией (позже «гиперграфией»), неоиероглифами, в которых фразы были смешаны или дополнены картинками и наоборот, «таким образом, вводя в алфавитное письмо не только искусство живописи, но и графику или антиграфику каждого индивидуального воображения». В 1950 году своей книгой “Saint ghetto des prêts”, с подзаголовком «гримуар» (книга заклинаний или, иначе, тарабарщины), Померан вывел метаграфию на уровень космической игры слов. Это было невероятное произведение: каждое слово заменено картинкой, каждая картинка была извращена словом, и то, что ситуационисты назовут «непокорностью слов», было инсценировано уже в самом названии. С подстановкой слова prêts (кредиты) соседний район Сен-Жермен-де-Пре — пристанище леттристов, «главный герой» книги, — превратился в место, где жители жили в одолженное время, с подстановкой «гетто» он становится местом, которое никто не может покинуть. Но чем дальше листаешь страницы, тем больше это место напоминает лабиринт, где каждая случайная встреча со словом, изображением, строением или человеком, переполненными легендой и возможностью, позволяет проникнуть в тайную утопию, доступную всякому, кто способен её распознать. «Сен-Жермен-де-Пре это гетто, — начинает Померан. — Там каждый носит на сердце жёлтую звезду… Сен-Жермен-де-Пре это зеркало небес».
Две страницы из “Saint ghetto des prêts” Габриэля Померана, 1950. Комментарий Жана-Поля Кюртая: «Правая страница демонстрирует магию мистериографического преобразования текста, который был напечатан на левой странице обычными словами. [Это был] странный гибрид, где перемешались иероглифы, ребусы, еврейский алфавит, клинопись и язык жестов… croirait («поверит») [, вероятно,] представлен крестом (сroix), нарисованным рядом с лучом (raie); déniche («разыскать») представлен гранями кубиков (dé), нарисованных на крыше и стене конуры (niche); chaivre («переворот») представлен кошкой (chat), хвост которой имеет форму фаллоса (vit) и чей зад поддерживает нотный стан и ноту D (ré)».
Шли годы, леттристы заменили поэзию, музыку, танец, роман, философию, театр, кинематограф, архитектуру, фотографию, теологию («Все боги — все хозяева»), радио, телевидение и видео новыми формами, основанными на тех же принципах физики элементарных частиц, которые Изу впервые применил к поэзии. Они продолжают это делать и сейчас, когда я пишу эти строки, по-прежнему в своём самодельном гетто — но в послевоенном Париже леттристы оставались более всего известны своей заменой политеса скандалом. Учитывая, что на самом деле Рауль Хаусман изобрёл буквенную поэзию в Берлине в 1918 году после Первой мировой (в 1968 году Хаусман, которому уже было за восемьдесят, устроил выступление, где рычал “OFFEAHBDC/BDQ” в длинную переговорную трубу, затем вскидывал её как гарпун, вышагивал, высоко поднимая колени, и, наконец, бросал трубу на пол: «Вы действительно думаете, что я помню наизусть эту полувековую ерунду?»), Изу сотоварищи обвинили его, первооткрывателя, в плагиате — к его бесконечному недоумению и ярости, хотя сохранилась чудесная запись 1946 года, на которой Хаусман и некоторые леттристы обсуждают эту проблему исключительно с помощью вымышленных буквенных языков. Говорят, в 1971 году, когда Хаусман уже был на смертном одре, Изу прислал ему очередное еженедельное письмо, которое содержало в себе лишь повторение одного единственного слова: «говно, говно, говно»4.
Леттристы нападали на Андре Жида («старая сука», «педик») и на благотворителя Изу Полана («жабий стиль»). Андре Бретона яростно обзывали болтуном, истекающим «вялым гневом», истерически пытающимся занять своё место в прошедшем мимо него времени: «Он предлагает себя и своё поколение любой вере, любой надежде, любому бутику. Мы не могли его взять, так что он остался»5. Экзистенциализм был объявлен тусклой, вульгарной смесью Ницше, Гуссерля, Хайдеггера и Ясперса — и это было не слишком ошибочное определение. Шла культурная война.
Декларация Изу о том, что его цель — стать богом («но, — отметил он в 1958 году, — не отказываясь вместе с тем от таких удовольствий, как сомнение и скептицизм»), не была шуткой; не шутил он, заявляя, что каждый, кто творит новые формы, также может стать богом. Как дада вызывал тысячелетних духов, так и Изу откопал гностическое верование, что те, кто объединялся вокруг истины, только они и никто другой, станут Богами Истины и наследуют Землю. «Он был Мессией, — говорит Жан-Поль Кюртай (сегодня он доктор и поэт, а в конце 1960-х состоял в группе Изу). — Он обещал рай: что экономика будет рогом изобилия, искусство беспрестанным возбуждением, жизнь чудом».
Сухие слова, и трудно представить, что кто-то в это верил — но так или иначе многие верили. Суть в том, чтобы не воспринимать заявления Изу буквально — хотя многие неуравновешенные из числа леттристов, такие как Померан, полностью проглатывали их, — но понять в контексте послевоенного конформизма и преобладающей художественной энтропии («Это время, — Бретон говорил Изу, — которое впоследствии добавляется к легенде, преувеличивается и исправляется»