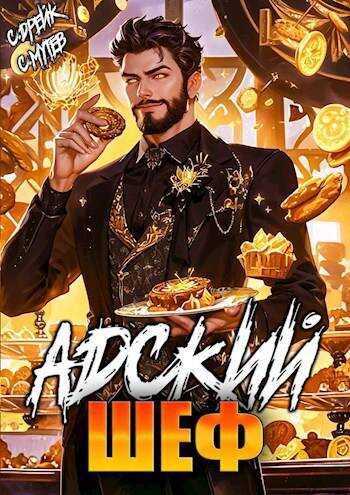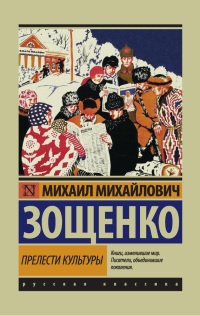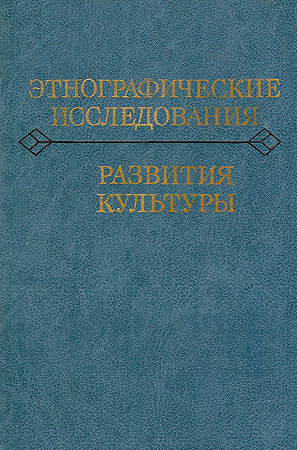из них улыбается. Спина всегда прямая, вне зависимости от того, сидит человек или стоит. Никаких вторых дублей.
Благодаря особому стилю работы Зандера лица фотографируемых приобретали особое выражение значительности. То, что «цепляет» нас в фотографиях Зандера, – это уважение фотографа к каждому отдельному человеку. Но та напряженность, которую мы, как нам кажется, видим на снимках, происходит не от того, что люди в самом деле переживали какие-то невзгоды. Да, лица выразительны, но больше всего они отражают упрямую серьезность самого социолога, тайное соглашение между фотографом и его объектом.
После того как Зандер «каталогизировал» типичных жителей города, кривая резко поползла вниз, в новом направлении. Теперь фотограф фиксировал образы «отбросов» общества: слабоумных, попрошаек, бродяг, безработных. Вот так, в целом, представлял себе Зандер структуру социума.
Но социологическое исследование Августа Зандера имело в своей основе еще одно, возможно более важное, положение. Назовем это положением о физиогномической выразительности. Сама идея была весьма популярна в XIX веке – наверное, этим и объясняется атмосфера древней старины, которая так поражает на фотографиях Зандера. У крестьянки нет имени – она всего лишь крестьянка и существует в нескольких однотипных версиях. То же касается и фабрикантов, и слесарей, и булочников, и профессоров. Только интеллектуалы и художники могли рассчитывать на что-то, похожее на индивидуальность. Впрочем, Паулю Хиндемиту тоже пришлось довольствоваться скупой подписью под фото: «Композитор П. Х.».
Зандер полагал, что род занятий человека определяется его личностью, и наоборот. Таким образом, внешний вид выражает внутреннее содержание; верно и обратное. При таком подходе во внешнем облике человека можно увидеть отражение всей общественной системы.
В таком мире сама мысль о том, что одежда делает человека, была невозможна. Если на фото Зандера внезапно оказывался зонт, то это ни в коем случае не было случайностью, и в еще меньшей степени это свидетельствовало об ожидании осадков. Зонт был отличительным аксессуаром государственного чиновника – точно так же, как сноровка, с которой упитанный кондитер помешивает что-то в большой кастрюле, была атрибутом – правильно – любого кондитера. Все великие фотографы являются великими мифологами, сказал однажды Ролан Барт, имея в виду, среди прочих, и Зандера. Барт также добавил, что все фотографы, исследующие общество, работают с масками – чистыми масками, как в античном театре. Но в мифологии Зандера скрываются не глубокие и уникальные личности, а другие маски.
В каком-то смысле энциклопедический проект Зандера был обречен на провал. Он также остался незавершенным. Сразу после окончания Второй мировой войны в разбомбленном доме фотографа случился пожар, и сорок тысяч негативов, которые хранились в подвале, были утрачены. Но есть и другие причины неудачи. Те сейсмографические сдвиги в общественной системе, которые однажды побудили Зандера взяться за описание человеческих типов ХХ века, разрушили саму идею подобной энциклопедии. Классификация, разработанная фотографом, не отвечала новому времени. Как и «Человеческой комедии» Бальзака, проекту Зандера суждено было остаться незавершенным. Однако это не умаляет того, что было сделано: Август Зандер оставил после себя грандиозный монумент, потрясающе красивое свидетельство зарождающегося современного общества.
Паприка это паприка: Эдвард Уэстон
Впервые опубликовано в газете Dagens Nyheter 17 марта 1999 года.
Паприка это паприка это паприка. Но она также может превратиться в женский торс. Или в раковину улитки. Или в унитаз.
В мире Эдварда Уэстона все образы – сущности единого порядка. Как бы ни различались изображаемые объекты, все они, вне зависимости от их происхождения или назначения, подчинены одному – мечте о чистой форме.
Поэтому все часы стоят. Срок, отмеренный паприке, – не краткая жизнь овощного блюда, но вечность. Улитка обитает не в Тихом океане, а на столе в студии фотографа. Унитаз – не удобство, но прежде всего – воплощение чистой красоты.
Эдвард Уэстон (1886–1958) – один из крупнейших представителей американского фотоискусства. Его учителем был Альфред Стиглиц. Как и предшественник, Уэстон посвятил свою жизнь одной цели: добиться того, чтобы фотография стала восприниматься как самостоятельный вид искусства. Цель была достигнута, когда фотоискусство стало модернистским. Сам Уэстон начинал работать в романтическом стиле рубежа веков. Но в двадцатых годах он обращается к модернистскому эксперименту, а в тридцатых – сороковых в его творчестве проявляются элементы сюрреалистической эстетики.
И Стиглиц, и Уэстон хотели, чтобы зритель взглянул на мир словно в первый раз. Но Уэстон в этом плане пошел дальше учителя. Хотя Стиглиц стремился в остановленном мгновении зафиксировать «экстракт» реальности, его мир был по-прежнему узнаваем. Лошади, тянущие повозку по улице заснеженного Нью-Йорка, остаются лошадьми.
Уэстона, напротив, совершенно не интересовали ни связная история, ни контекст. Еще меньше стремился он к документальной точности. Его внимание было направлено на форму саму по себе; органические, первобытные формы виделись ему в окружающих объектах – и чем обыденнее объект, тем лучше. Раковина улитки, или паприка, или унитаз представали своего рода скульптурными композициями в суверенном мире искусства. И в этом мире к ним присоединялся мотив с древнейшей родословной: обнаженное женское тело, сама мать-природа – настолько естественная, что можно заметить волосы у нее на ногах.
Если на фотографиях Уэстона и есть какой-то контекст, то он проявляется при сопоставлении снимков. Тогда можно заметить, что капустный лист напоминает поражающие воображение пустынные формации. Или что обрезанные в кадре женские конечности можно легко спутать с пучком спаржи.
Как и многие другие модернисты, Уэстон верил в миф о восприятии ради восприятия, отметая требования пользы или вовлеченности в социальный или исторический контекст. О жизнеспособности этого мифа говорит хотя бы тот факт, что такие разные фотографы, как Ирвин Пенн и Роберт Мэпплторп, осваивали эстетическое наследие Уэстона.
Эдвард Уэстон осознанно ориентировался на авангардную живопись и скульптуру своего времени. В середине двадцатых он усердно воспроизводил красоту эмалированных раковин, и критики тотчас заметили в этих работах отголоски скульптурных композиций Бранкузи 1910-х годов. Хотя сам Уэстон не очень хотел говорить о влиянии. «С помощью своей камеры я обращаюсь непосредственно к тем источникам, которые питали творчество Бранкузи», – гордо заявлял он. Уэстон полагал, что он находится ближе к натуре, чем скульптор, поскольку скульптору необходимо создавать желаемый образ. Фотографу же достаточно просто найти его.
Уэстон жил и работал в Калифорнии – артистической заводи на карте США. Только в начале 1920-го года, семь лет спустя после скандала, разразившегося в Нью-Йорке вокруг писсуара Марселя Дюшана, Уэстон обратился к модернистской эстетике. На портрете Йохана Хагемейера, сделанном в 1920 году, фотограф словно бросает беглый взгляд на профиль объекта, мелькнувший в прямоугольном пятне света, и трубка, образующая прямой угол,