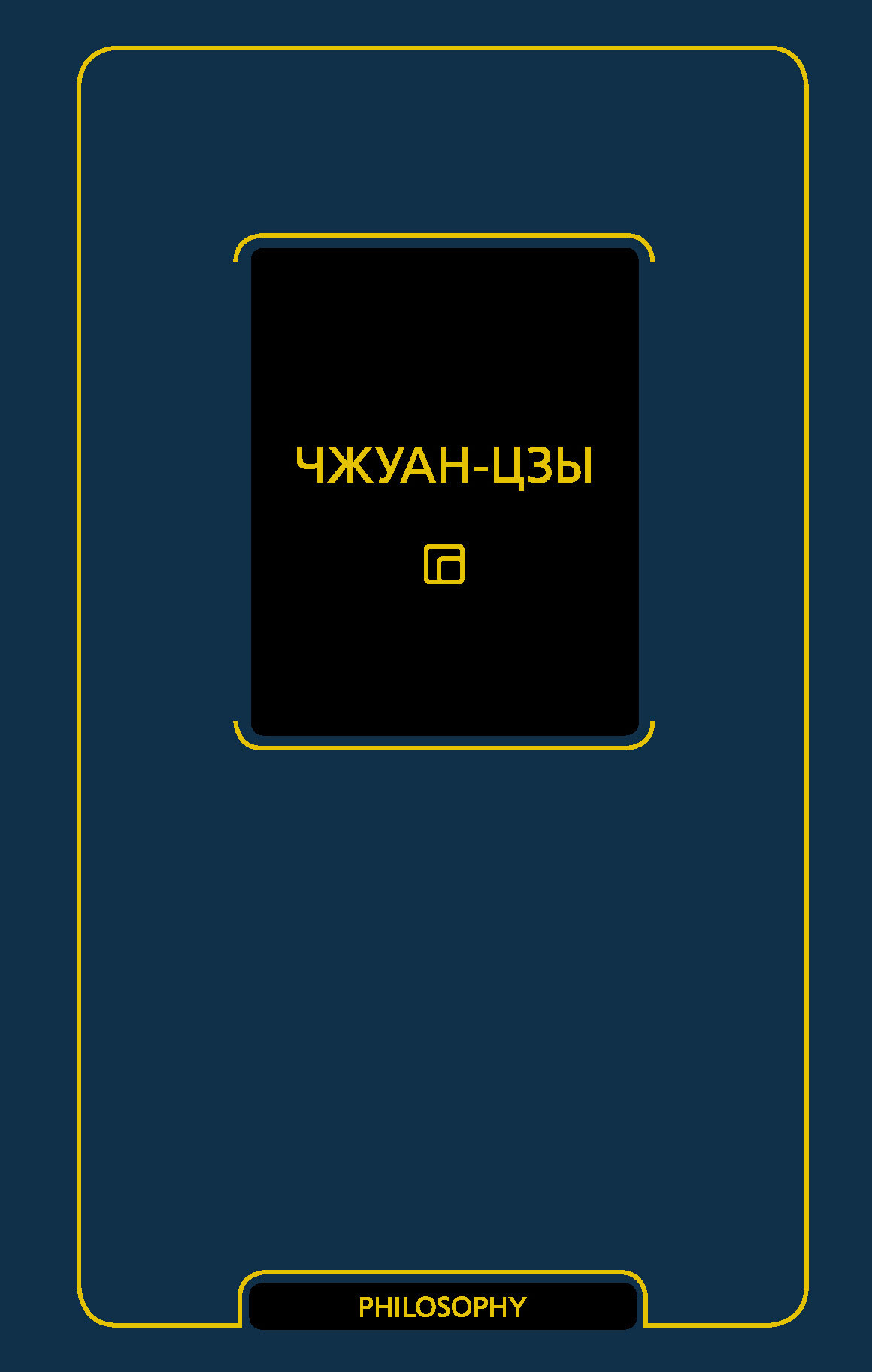поэмами» в качестве протеста против разрушения Европы. Когда Балль впервые оставил дада в июле 1916 года, у Хюльзенбека случился нервный срыв, длившийся почти полгода («наказание за дадаистскую заносчивость», — говорил он). В Цюрих он приехал только из-за Балля — а также из-за своей призывной комиссии. Он приехал или 8, или 11, или 26 февраля — спустя три, или шесть, или двадцать один день после открытия кабаре.
Несмотря на шум и толпу, он посчитал кабаре мёртвым. Он хотел ритма и был готов способствовать его появлению: теми же «Негритянскими поэмами», Negergedichte, основанными на фрагментарных познаниях о рэгтайме — по сути, ни на чём не основанными. Каждая поэма заканчивалась костью в носу: «умба-умба». Стихи он зачитывал со сцены.
Ян Эфраим отвёл Хюльзенбека в сторону. Он объяснил, что буржуазный примитивизм немецких студентов-медиков являлся даже не обманом, а безнадёжными фантазиями: старый моряк много лет общался с африканскими «неграми». Здорово, сказал Хюльзенбек (на самом деле он сказал Отъебись, но Балль сумел его переубедить), — покажите мне что-нибудь аутентичное. Спустя несколько дней Эфрам вернулся с каракулями: “TRABADYA LA MODJERE MAGAMORE MAGAGERE TRABADJA BONO”.
Это был язык дада, который Балль продемонстрирует в своих знаменитых звуковых поэмах. Если слова, не способные иметь содержание, способны аннулировать содержание, то эфраимовские звуки выкликают неопровержимые заключения. Хюльзенбек стоял на сцене и декламировал принесённые ему хозяином заведения бессмысленные звуки, затем вставлял свои, не забывая, вопреки просьбам не делать это, повторять везде своё дурацкое «умба-умба»; публика реагировала самыми различными способами. Он сидел за большим басовым барабаном, колотил в него, выкрикивая новые слова, потом, как Джерри Ли Льюис в песне “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”, шептал их, затем голосил вновь. Читая своё стихотворение «Конец света», он вышагивал по сцене, рассекая воздух хлыстом, сплёвывая бессмысленные звуки, словно они апокриф из утраченного гностического «Евангелия Истины»: «Брюитистская poème впервые исполняется Рихардом Хюльзенбеком Дада, — любил приговаривать он, — или, если предпочитаете, наоборот». Это всё ещё был обман, но этого никто не знал: «Я тайком поступил в университет и начал изучать медицину, — рассказывал он в 1971 году на лекции в лондонском Институте современного искусства. — Я не мог никому об этом рассказать, так как все бы подумали, что я ужасный лгун и буржуй. Утром он шёл на учёбу, а вечером умба-умба»39. Но в Цюрихе в 1916 году никто из шести дадаистов и никто из публики не смог бы отличить «умба-умба» от “Hold On, I’m Coming”[91], поэтому дадаисты ловили ритм в рукоплесканиях публики, когда она устремлялась на сцену, стаскивала Хюльзенбека за ноги — неважно, на каком он говорил языке и говорил ли он вообще что-то. «Всякое искусство начинается с критики, — рассуждал он, — с самокритики, а личность это всегда отражение общества. Наша критика началась, как и любая другая, с сомнения… Сомнение стало нашей жизнью. Сомнение и произвол. Может ли язык выразить сомнение столь глубоко?»
На сцене он давал сдачи. Разгорались драки, он подстрекал их. «Можете прервать меня, когда угодно», — говорил он в Лондоне. «Я бы хотел, чтобы вы были поживее, как мы в своё время. Сейчас я вступаю в последнюю треть моей жизни, — говорил он в возрасте 79 лет, — и уже не такой живчик, как в 1916 году в Цюрихе на Шпигельгассе, тогда я был очень шустрый — мог прыгать по столам и стульям, бить людей и, конечно, быть избиваемым, но тот запал ещё не прошёл до конца… Балль в своей знаменитой книге “Бегство из времени” охарактеризовал меня тогдашнего как молодого, агрессивного, неприятного типа, который всегда нападал на публику, плевал в неё и через слово талдычил умба-умба. Такое поведение не может больше продолжаться, рано или поздно надо что-то с ним сделать, если он не прекратит. А мы так и продолжали».
«Ужасный хаос», — говорил Хюльзенбек тем вечером в Лондоне. «Смысл хаоса, вот о чём я собираюсь говорить». Но он так и не удосужился заняться этим.
Разрушение
«Разрушение вплоть до глубин процесса творения», — писал Балль. «Крайне важно писать неопровержимые афоризмы». 15 июня 1916 года:
Пришёл Хюльзенбек, чтобы перепечатать на машинке свои только что написанные стихи. После каждого второго слова он поворачивается ко мне и спрашивает: «А может, это ты написал?» Я в шутку предлагаю, чтобы каждый из нас составил алфавитный список своих самых удачных образов и выражений, чтобы можно было сочинять без помех: ведь и я, сидя:
на подоконнике, что-то царапаю на бумаге, избегая заёмных слов и ассоциаций, и не спускаю глаз со столяра, что сколачивает во дворе гробы. Чтобы быть точным: две трети удивительно звучных слов, которым душа человека не в состоянии противостоять, заимствованы из древних заклинаний. Употребление отмеченных печатью тайны слов, исполненных магического значения крылатых выражений и звуковых фигур характерно для нашего с Хюльзенбеком способа писать стихи. Такого рода слова-образы, если они удаются, с неодолимой, гипнотической силой врезаются в память и потом непроизвольно, без усилий вспоминаются. Я часто наблюдал, как не подготовленные к нашим вечерам люди настолько оказываются во власти одного-единственного слова или словосочетания, что неделями не могут от них избавиться. Такому мучительному воздействию подвержены прежде всего люди легко внушаемые, апатичные40.
Определение найдено: безрассудная божба, прерванный жест, затаённое проклятие, танец, который можно позабыть только по прошествии целой цивилизации, но чтобы его вспомнить, достаточно десяти секунд. Те части, которые Лефевр пообещает раздробить на мелкие кусочки, оказались обнаружены. Импульс подействовал, задачей было его развить. «Нам весьма пригодились в первую очередь особые обстоятельства этого времени, — говорил Балль, — которое не позволяло значительному таланту ни успокоиться, ни достичь зрелости и тем самым побуждало его к проверке средств выражения на подлинность. Кроме того, сказался эмфатический порыв нашего кружка, каждому участнику которого хотелось превзойти других в требовательности к своей работе и в усилении акцентов». Янко внёс вклад своими масками.
Тристан Тцара, Цюрих, 1917
Реконструкция маски Тристана Тцара, сделанной Марселем Янко, 1916–1917
Немец, жертва Первой мировой войны
Ханна Хёх, “Fröhliche Dame”, 1923
Балль увидел в них обобщение страстей, образы, которые свободно веяли более двух тысяч лет и каким-то образом материализовались на кривой улочке в Цюрихе по пути с тайных оливковых рощ, где греки разыгрывали свои первые мистерии. В то же самое время он рассматривал эти маски как