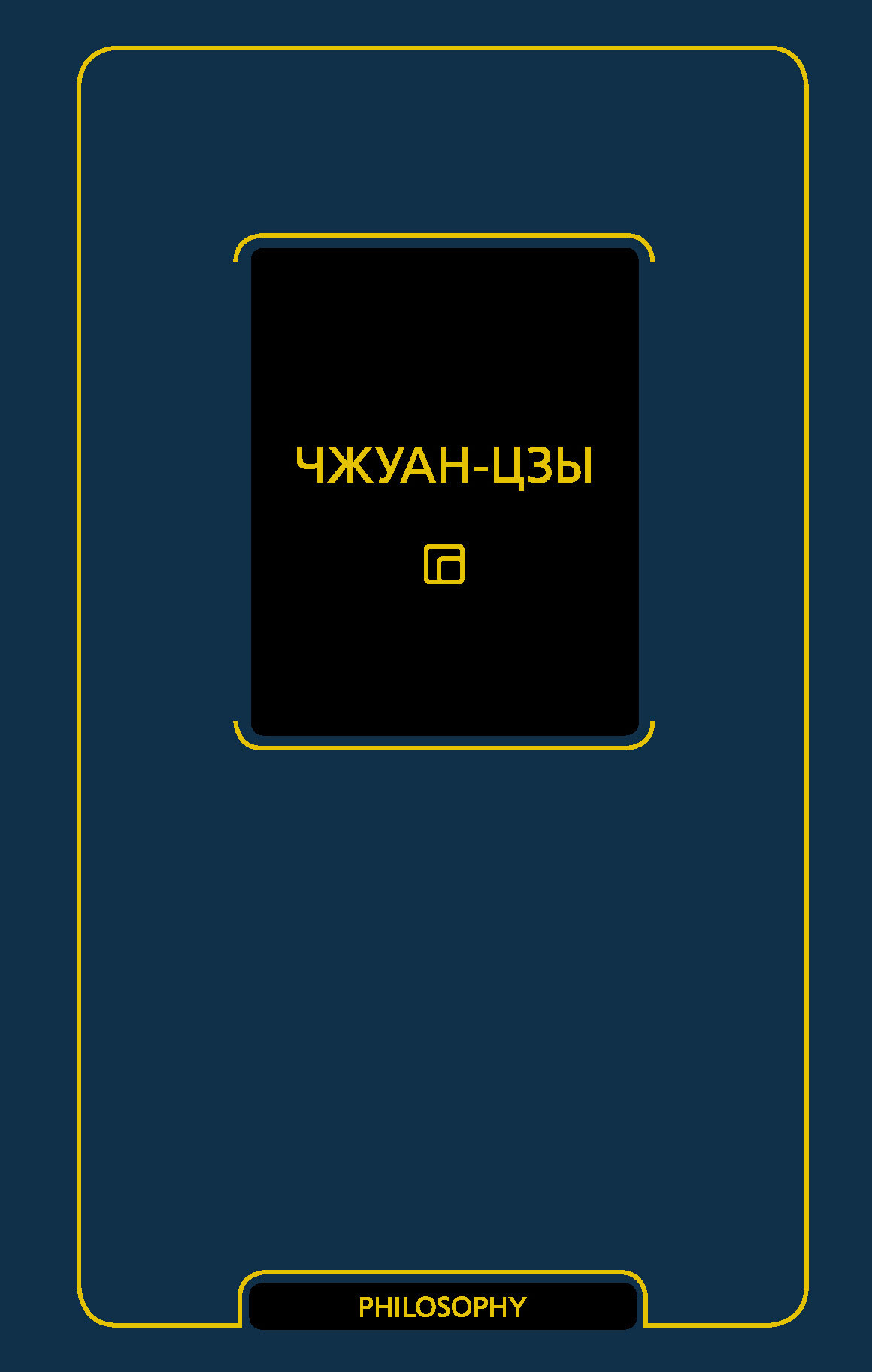сцене как ежевечернее разоблачение скрытого лица — то видишь, то не видишь, и неважно, что почти все были пьяные, выплясывали, ничего не замечая, просто веселясь, — ежевечернее доказательство, что парадокс, который дадаисты хотели инсценировать, являлся парадоксом, не доказательством. Это было способом сохранить популярность заведения и сделать выручку в баре («Дай на чай своей официантке!», — гласила утраченная строчка в дневнике Балля), «идеалами культуры и искусства в качестве программы варьете»29, соревнованием с ожиданиями публики, соревнованием зрителей между собой. День за днём неизвестные люди поднимались на сцену из публики, чтобы произнести речь, прочитать стихи, всю жизнь хранившиеся ими как сокровище или пришедшие им в голову пару минут назад, спеть старые песни, выставить себя дураками, принять участие, измениться. Не было никакой классики. Вольтер был так же актуален, как и Аполлинер, певица по имени Мадам Дада являлась современницей Дионисия Ареопагита, потому что исполнители и публика в запале теряли память. Арп писал в 1966 году, в год своей смерти, вспоминая, как ещё до открытия кабаре он в расстройстве разорвал одну из своих картин, подбросил вверх её фрагменты, а затем увлечённо смотрел, как они плавно опускались на пол и, заворожённый этим мгновением, придал этим обрывкам форму не менее правдоподобную, чем телам, разбросанным гранатой по окопу: «До того, как там появился дада, дадауже был там…»30
Сюда вкралась сентиментальность: это напыщенное многоточие. До того, как там появился дада, там было стремление отринуть войну и сделать себе имя, затем появилось стремление удержать это имя. Как художники все обитатели кабаре ничего собой не представляли, в Цюрихе они сразу же прославились. Почему бы не прославиться на весь мир? С подачи Тцара, который увидел, что дада наживает капитал как арт-движение, группа издавала роскошные малотиражные сборники, предназначавшиеся для меценатов и музеев. В плотной бумаге не было ничего нового, в предвоенной Европе имелись бесчисленные примеры претенциозных ницшеанских кафешек. Но устремления Балля были куда выше: прямо перед тем, как предложить Яну Эфраиму свою накрахмаленную манишку и умение играть на пианино, он пытался покончить с собой; они с Эмми Хеннингс ночевали на улицах, просили подаяния и выискивали пищу в мусорных баках. Его желания были куда масштабнее: «Только театр способен создать новое общество. Фон, краски, слова и звуки следует вытащить из подсознания, оживить и охватить ими повседневную рутину с её тоской»31. Балль начал кабаре с целью прокормиться, и если дело пойдёт на лад, то и с целью изменить мир.
Наряду со стремлением Балля творить, существовал также скрытый импульс Эмми Хеннингс к разрушению. Выступая в 1912 году в берлинском ночном клубе, она заслужила редкий отзыв — редкий для анналов поп-музыки, если не для неё. Некий Равьен Сюрлай писал в радикальном журнале “Die Aktion”:
Она вышла на сцену кабаре с лентой на шее, её лицо бесцветно. Своими короткими золотистыми волосами и чопорными многослойными кружевами её откровенного тёмного вельветового платья она отделяла себя от остального человечества… старого и пустого… В женщине есть безграничность, господа, но не следует путать эротику с проституцией… Кто остановит эту девушку, саму истерию… от превращения в лавину? Скрытый под гримом, гипнотизирующий морфием, абсентом и кровавым светом электрического ореола, яростное искажение Готики, её голос скачет через трупы, насмехается над ними, выводит проникновенные трели подобно жёлтой канарейке32.
Можно почувствовать, как Сюрлай приходит к пониманию, можно почувствовать, как он отступает назад, наконец, доходя до канареечного клише, словно бы отсекая свою собственную догадку: да, это было просто шоу. В конце 1970-х множество новых Сюрлаев будут стараться изображать попытки произвести схожий фурор (в Сан-Франциско певица из группы Noh Mercy выйдет беременной на сцену, присядет на корточки, извергнет поток ненастоящей крови и разродится коровьей костью; в Лос-Анджелесе во время выступления Vox Pop на эстраду заберётся голая женщина, провалится в большой барабан, вытащит «тампакс» из вагины и бросит его в толпу — «взрослые люди, скинхеды, побледнели и разбежались» — таким был панк после распада Sex Pistols, после того как Джонни Роттен довёл шоу до его пределов). Литераторы попытаются осмыслить новые версии явления Эмми Хеннингс, но не дойдут даже до компромисса Сюрлая — что, вероятно, означает, что случившееся в 1912 году не имело продолжения в панке или, может быть, тот страх, о котором говорил Сюрлай, требовал той непорочности, которая уже невозможна в наши дни. В 1912-м до войны оставалось два года; вместе со всеми европейцами Сюрлаю ещё только предстояло узнать, что такое «скакать через трупы» или хотя бы что такое «труп». И как в случае Луи Вейо, увидевшего Терезу, Сюрлай приходил к пророчеству — и то расстройство нравов, которое он увидел в Эмми Хеннингс, вскоре распространится по всему Западу. Балль мог ощутить это в 1914 году, попав на бельгийский фронт, переделавший его из солдата-срочника в уклониста, он определённо узнал это расстройство в июле 1915 года, когда Маринетти прислал ему футуристскую новинку “Parole in liberté” («Слова на свободе»).
«Облик человека всё больше исчезает из живописи нашего времени и все вещи предстают только в разрушении»33, — писал Балль уже в следующем году, когда кабаре было в самом разгаре. «Это лишний раз доказывает, насколько уродлив и затаскан стал человеческий лик, насколько отталкивающ каждый предмет из нашего окружения. Вскоре и поэзия из этих же соображений решит отказаться от языка. Это нечто, чего, вероятно, ещё никогда не было». Но Маринетти сделал подсказку: в 1915 году слова в его манифесте скакали по странице как неграмотные схемы песен, как доказательство невозможности критиков понять новую музыку «Сплошь состоящие из букв плакаты, — восхищался Балль, — можно раскатать стихотворение как географическую карту Синтаксис распался. Буквы разлетелись и кое-как собраны. Языка больше не существует… его нужно найти заново. Разрушение вплоть до глубин процесса творения».
Это была идеальная теория для практики Эмми Хеннингс, отличный предварительный итог самых ярких мгновений кабаре, которые случатся только спустя полгода — в особенности если это меняет местами первое и последнее слова в заключительном предложении Балля. Кабаре было названо в честь автора лучшей иронии на свете — «Всё к лучшему в этом лучшем из миров», — сказал Вольтер. «Наш вариант “Кандида”, направленный против существующей действительности»34, — характеризовал Балль «Хутор», и для имеющих уши здесь не было никакой иронии. Разрушение вплоть до глубин творения, творение вплоть до глубин разрушения — никто, и дадаисты тем более не мог разобраться, являлся ли дада абсолютным приятием или абсолютным отрицанием, наличествовал только абсолют, существующий настолько, насколько обратимым было высказывание