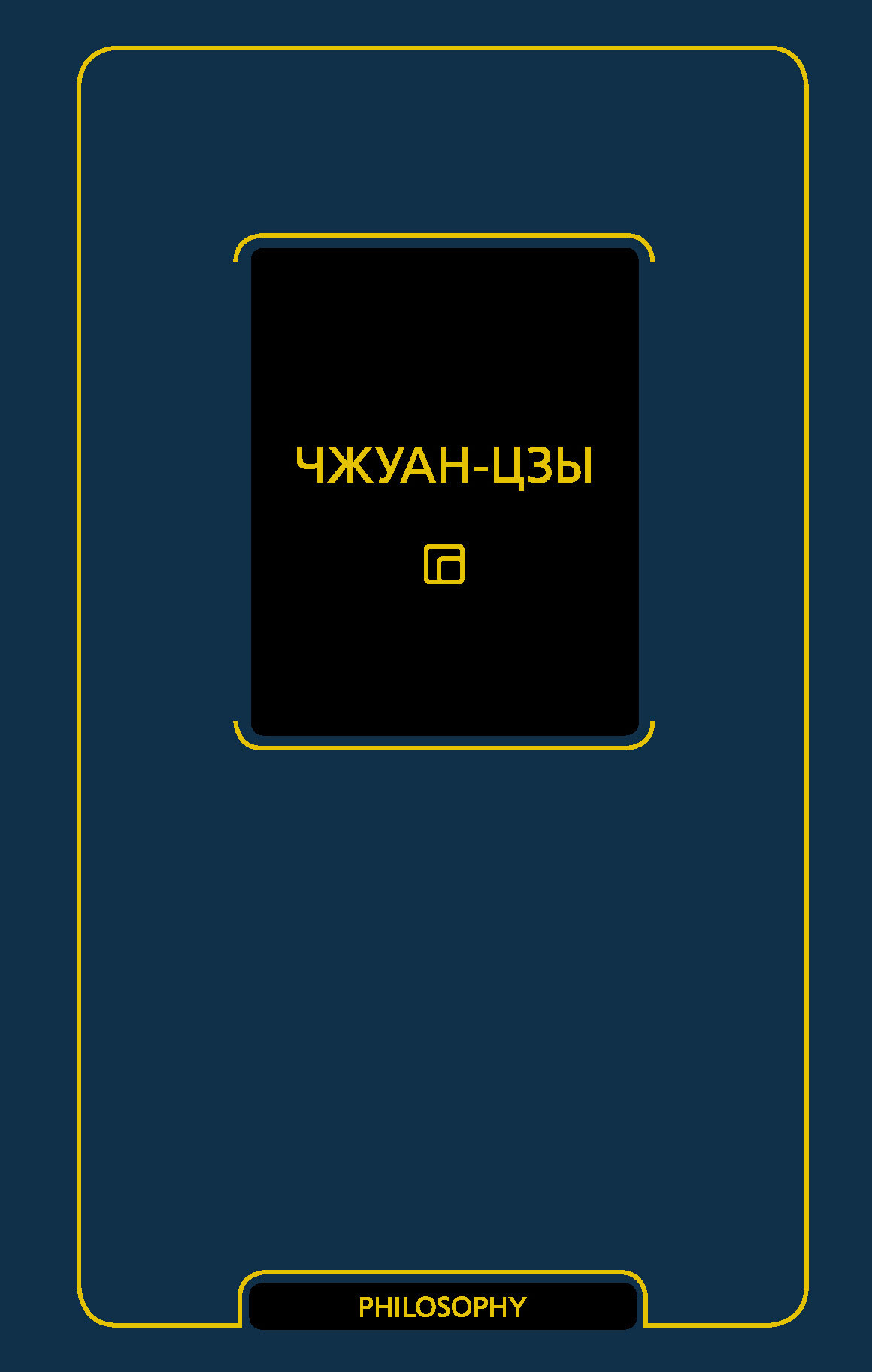видеть в искусстве шалость: увидели freie strasse, champ libre, свободное пространство как убежище. И если они открывали каждый вечер кабаре словно ведя войну против миллиона одинаковых изданий Гёте, наколотых на миллионы штыков, то это потому, что искусство дурачило людей, заставляя верить, что мир лучше, чем есть; потому что на небесных весах искусства единственный экземпляр «Фауста» перевешивает миллионы жизней, отданных за то, чтобы это произведение продолжало печататься; потому что искусство направило страсть человека к изменению мира на путь противоестественной терапии создания поэзии, живописи, пепельниц. Породило визиты родственников по воскресеньям, породило музеи — разве всё это не одно и то же?
Заключения, к которым пришли Балль и Хюльзенбек, не уничтожили импульс, приведший их к искусству. Этот импульс невозможно искоренить: это был импульс к изменению мира. Когда Балль писал, что для «людей, ежедневно подвергающихся чудовищному давлению и не имеющих возможности вести записи своих впечатлений, художественное творчество становится курсом выздоровления», он имел в виду, что во времена, когда каждый день творит свой собственный нигилизм, должен быть сотворён, выдуман новый смысл. Из чего сотворён? Из ничего, открывали дадаисты, вознеся обломки цивилизации на сцену и наблюдая, как меняется её форма — из ничего в пустоту. Дада был захватывающим потому, что допустил, а затем потребовал полного, а затем сознательного отказа от ответственности по отношению к искусству, затем по отношению к обществу, которое представляло искусство, — а, как открывали дадаисты, представлять здесь означало принимать. Они подошли к тому, чтобы открыть социальный атом, приблизились к тому, чтобы его расщепить.
Реклама, Цюрих, 1913
Дада был милостью, но непрошенной милостью, исходившей не из веры или деяний. Милость исходила от Бога, хотя Бог равнодушен к пустяковым саморазрушающимся этическим нормам, которые человечество превратило в имитацию естественного хода вещей. Поэтому дадаисты познавали милость как шанс, как положение удачного-места-в-нужное-время, как удар молнии, как падение на улице. Подобно падению на улице, милость является облачённой в жесты повседневности; подобно удару молнии, она является к человеку лишь однажды, в момент перемен, когда весь мир очищается и перерождается в Новом Человеке хотя бы на мгновение, — вот почему дадаисты так никогда от этого не оправились.
Вместе с Хюльзенбеком они решили, записал Балль, что искусство являлось «лишь поводом», «методом» обнаружения «ритма и скрытого образа этого времени» — «его основой и сутью», «возможностью его растормошить»25. Это была та же концепция, которой Ги Дебор в 1961 году придал новую форму и закалил в своей “Critique de la séparation” («Критика разделения»), фильме о ситуационистах и мире спектакля, который они намеревались уничтожить. Делая искусство, фильм, дабы оспорить притязания искусства (как и все его фильмы, кроме одного, этот был упражнением в détournement, фильмом, почти полностью состоящим из фрагментов чужих фильмов, анонсов, фотографий, рекламных роликов, мультфильмов, граффити, новостных хроник: на экране игральный автомат сменяется ПОЕДИНКОМ, затем тюремная охрана загоняет бунтующих заключённых обратно в их камеры), Дебор говорил за кадром: «В целом события, происходящие в индивидуальной реальности в том виде, в каком она организована, те, что касаются нас напрямую и требуют нашего пристального внимания, на деле не заслуживают ничего большего, чем нашего участия в качестве далёких, скучающих и равнодушных зрителей. Напротив, ситуация, которую мы рассматриваем сквозь призму художественного наложения, часто привлекает к себе как заслуживающая того, чтобы стать её участником, действующим лицом. Вот парадокс, который нужно перевернуть, поставить с головы на ноги. Именно это необходимо реализовать на деле»26. Ситуационисты полагали, что на фоне открытий новых миров, сделанных художниками в первой четверти XX века, больше с тех пор не происходило ничего. Всё, что осталось, это импульс: желание «статьучастником», «действующим лицом». Конечно, для кого парадокс Балля оставался только словом, для того «время» продолжалось, «искусство» продолжалось. Что бы ни случилось в 1916 году, в 1961-м нечто, называемое дада, продолжало вдохновлять людей по всему миру, многие из которых трудились на ниве искусства, были счастливы услышать в свой адрес «неодада» — мошенничество как во времени, так и в искусстве, говорил бывший берлинский дадаист Рауль Хаусман, потому что неодада «рассматривал объект как “вещь в себе” — что дада отвергал»27.
Воля к изменению мира, рассказывал Дебор в «Критике отчуждения» — своей критике отчуждения искусства от мира, который оно намеревалось менять, отчуждения одного человека от другого, отчуждения сжатого кулака от владельца руки — наиболее полно выразилась в художественном импульсе, искажённом произведённым им объектом, ставшим предметом потребления, фактором реификации, вещью в себе. «Капитализм пожаловал искусству в виде уступки вечную привилегию», — писал Дебор в 1960 году,
настоящую творческую деятельность, алиби для отчуждения любых иных форм деятельности… Но в то же время сфера, зарезервированная для «свободной творческой деятельности», является единственной, в которой на практике и в полной мере поднимается вопрос о предельном использовании жизни, вопрос коммуникации. Таким образом, искусство является средоточием основных противоречий между сторонниками и противниками официально предписываемых жизненных целей. Установившиеся бессмысленность и разделение соответствуют общему кризису традиционных художественных средств, кризису, связанному с опытом другого использования жизни или требованием его испытать28.
Это был тот кризис, который начал проявляться в «Кабаре Вольтер»: осознание, что бессмысленность искусства, его отчуждение от того, что действительно происходило, делали прекрасное, правдивое и доброе безобразным, фальшивым и злым. Художественный импульс не может быть искоренён, но его средства разрушились: перед лицом новых машин, меняющих — уничтожающих — мир, живопись и холсты являлись такими же устаревшими средствами, как алхимия. Вероятно, можно было «творить непосредственно», как говорил Тцара, — жить подобно «гению», — но война превращает гения в выродка, а его коммуникацию в солипсизм. В качестве протеста, говорил Хюльзенбек много позже, кабаре было также паникой: паникой от осознания, что что бы ни могли сказать художники, у них больше не осталось способов выразить свои мысли, а если не осталось у них, значит, не осталось больше ни у кого. Отчуждённое искусство было иллюзией, скрывающей факт, что в XX веке поэзия, настоящая коммуникация, происходит из пистолета, нацеленного тебе в голову. В 1920 году в Берлине Хюльзенбек отбросил все сомнения: искусство должно быть уничтожено, говорил он, потому что являлось «вентилем моральной безопасности», механизмом беспредельных возможностей человеческого разума превращать самые худшие свои фантазии в настоящие зверства, а ужаснейшие зверства — в прелестные иллюстрации. Но это уже было суждением задним числом, покушением на убийство, дабы скрыть никогда не случившееся; в «Кабаре Вольтер» это были лишь догадки.
В кабаре
В кабаре искусство демонстрировалось на