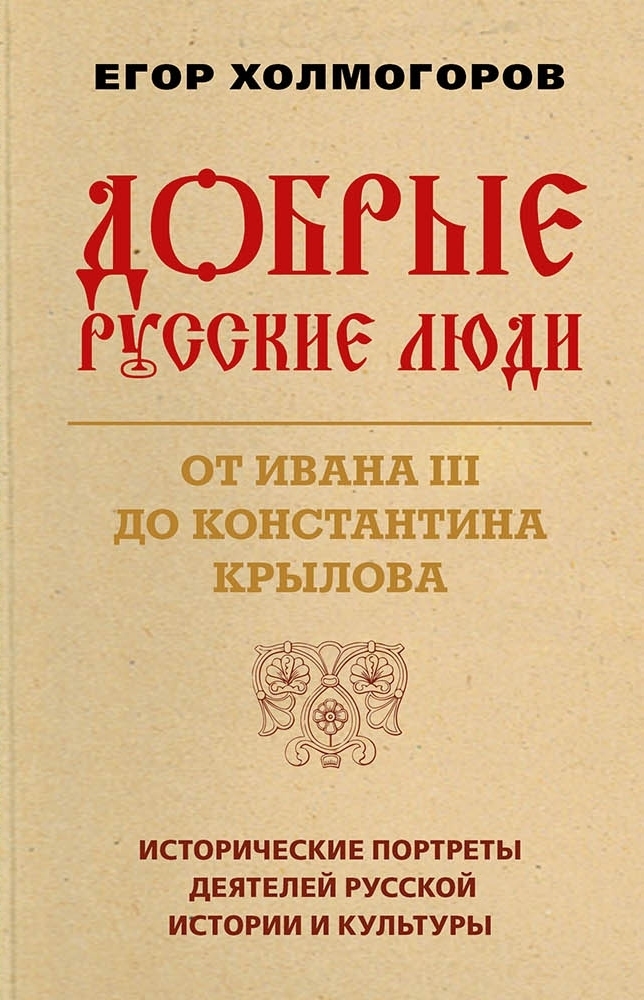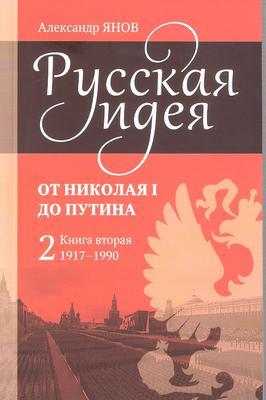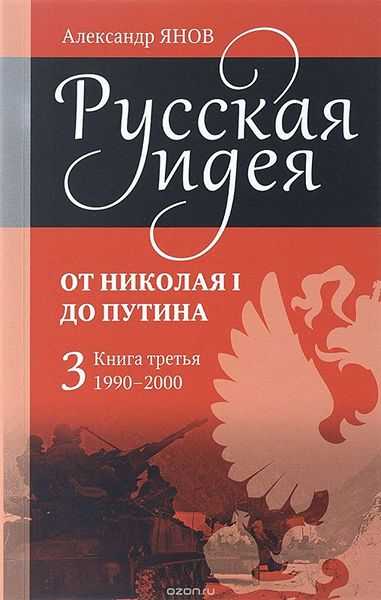раньше других и полней, должен ждать, что под видом покаянщиков слетятся и корыстные печень твою клевать»[89]. В предупреждение этого явления татей в национальной нощи Солженицын и пишет статью «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни», где предлагает раскаяние, ограниченное взаимностью до той черты, где начинается самоистязание на смех враждебному чужаку. Формулы оттуда столь задели образованцев, представлявших раскаяние России как поклёв дармовой печёнки:
«Острота раскаяния как личного, так и национального, очень зависит от сознания встречной вины? Если обиженный нами обидел когда-то и нас – наша вина не так надрывна, та встречная вина всегда бросает ослабляющую тень. Татарское иго над Россией навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды. Вина перед эстонцами и литовцами всегда больней, стыдней, чем перед латышами или венграми, чьи винтовки довольно погрохали и в подвалах ЧК и на задворках русских деревень. (Отвергаю непременные здесь возгласы: «так это не те! нельзя же с одних – на других!..» И мы – не те. А отвечаем все – за всё»[90].
По Солженицыну идея нации складывается из самоограничения с одной стороны и из самобытности и самостояния с другой. Он – философ свободы. Но свободы понятой не как безграничность возможности, а как самоограничение. Доктрина Просвещения базировалась либо на локковском принципе взаимного ограничения индивидами друг друга, а там где ограничения со стороны другого нет, – безгранична свобода, – это давало либеральный извод просвещенчества и доктрину прав человека, либо на руссоистском принципе слияния индивидов в сверхсубъекта, неограниченного коллективного суверена, – это давало радикальный извод просвещенчества и якобинско-большевистские практики.
Солженицын противопоставляет этому идею самоограничения, ограничения себя изнутри как основания истинной свободы. Здесь мы снова обнаруживаем полярность с Сахаровым, с его знаменитой формулой: «Смысл жизни – в экспансии». Для Солженицына смысл жизни как раз в отказе от экспансии и добровольном самоуглублении, освоении своего. Он цитирует старообрядческий журнал: «Кроме самостеснения нет истинной свободы человеческой» и далее резюмирует: «После западного идеала неограниченной свободы, после марксистского понятия свободы как осознанно-неизбежного ярма, – вот воистину христианское определение свободы: свобода – это самостеснение! самостеснение – ради других!»[91].
Отсюда такие черты политического мировоззрения Солженицына как национализм, антиимпериализм, антиглобализм, установка на собирание и сбережение, а не разбрасывание и растрату. Его главный упрёк к политике Российской Империи (не всегда неуместный и сегодня) выражен ёмкой пословицей: «Тётушка Федосевна до чужих милосердна, а дома не евши сидят». Его сквозной упрек власти на протяжении всей общественной деятельности – невнимание, небрежение русским народом и его интересами, нежелание власти видеть в русских цель, а не средство.
Настоящим шоком для многих в «образованческой» среде было то, что Солженицын заговорил о правах и самоуважении русской нации. Разумеется, в русоцентризме для той эпохи не было ничего нового, с 1965 года, с манифеста Корина, Коненкова, и Леонова «Берегите святыню нашу» шло русское этническое возрождение (скромный солженицынский вклад в легальные его формы – рассказ «Захар Калита», возможно только потому и пробившийся в печать, что попадал в логику кампании по сохранению наследия). Однако этот русоцентризм безошибочно связывался интеллигентским революционным правосознанием с политикой новых «душителей» – они «выпячивают «народные основы», церковки, деревню, землю» для того, чтобы поносить Запад как «псевдоним всякого свободного веяния в нашей стране»[92].
Сменовеховский «контракт» между советской властью и национальной интеллигенцией предполагал принятие большевизма, коммунизма как формы русской национальной истории и государственности. Этот контракт, уже после того как Устрялову пробили череп пулей и закопали в безымянной могиле Донского монастыря (того самого, в котором в могиле поименованной будет погребен и Солженицын), был скреплен сталинскими тостами и фильмами и он же подтвержден велеречивостью бердяевских «Истоков и смысла русского коммунизма». Коммунизм закрепил за собой все права на русское. Именно русское было объявлено самым тёмным, самым гнетущим, самым убийственным в коммунизме.
Солженицын разрывает этот подписанный кровью составителей национал-большевистский контракт с властью: «С вами мы не русские!» – обухом в «Архипелаге». Скажи он только это – многие бы из образованческой среды ещё согласились бы. Но писатель осмеливается от имени нации предложить своеобразное перезаключение контракта. С вами мы не русские, но у вас ещё есть возможность быть русскими с нами – именно таков смысл предуведомления в «Письме вождям».
«Преимущественно озабочен я судьбой именно русского и украинского народов, по пословице – где уродился, там и пригодился, а глубже тоже – из-за несравненных страданий, перенесенных нами. И это письмо я пишу в предположении, что такой же преимущественной заботе подчинены и вы, что вы не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам, что вы – не безнациональны»[93].
В условиях, когда русская нация демонтирована, Солженицын берёт на себя головокружительную смелость не просто говорить от её имени, по сути – быть ею единолично и предложить новый договор нации и власти. Власть отказывается от коммунизма, от колхозов, от индустриальной гигантомании и растраты национальных ресурсов, от экспорта революции и глобализации через холодную войну – надобно «перестать выбегать на улицу на всякую драку». Сосредоточиться следует на внутреннем развитии – на восстановлении измочаленной деревни, на сбережении малых городов, на избавлении народа от духовной оплёванности, на внутреннем развитии в главном направлении – на Северо-Восток. «Наш океан – Ледовитый, а не Индийский».
Это направление подсказывается Солженицыну его логикой борьбы за свою территорию. Установить русских на той части суши, где наши права никем и никак не могут быть оспорены, где нам гарантировано обладание своим. В этом может почудиться некоторая безысходность. Россия-Золушка, которой не досталось тёплых морей, говорит «зелен виноград» и оборачивается к Северу.
Без малого полвека спустя дело выглядит иначе – климатический сдвиг делает из русского Северо-Востока привилегированное пространство – открывающееся для жизни, ломящееся от природных ресурсов, как осенняя кладовая в урожайный год, и практически не освоенное. Ледовитый океан прямо на глазах сравнивается в судоходности с Индийским в свете чего геополитикам американских ВМС срочно приходится пересматривать маккиндеровскую концепцию «оси мировой истории», построенную на том, что русский «Хартленд» – это навсегда запертое льдами бессточное пространство, а не развернутое к открытым океанам самое протяженное в мире побережье[94].
Главное, что предложено от имени русских «вождям» в обмен на декоммунизацию – возможность сохранения власти. Тоталитарный режим вполне может преобразовать себя в авторитарный и в том не будет ничего дурного. Сахаровской демократической утопии Солженицын противопоставляет впечатляющую историософию полностью разрывающую с просвещенческой перспективой прогресса:
«В долгой человеческой истории было не так много демократических республик, а люди веками жили, и не всегда хуже. Даже испытывали