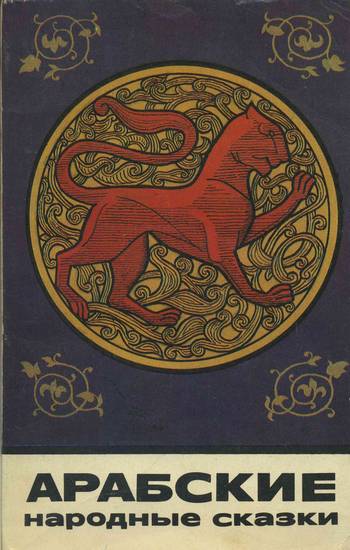вот что, — говорит, — выпросился ночевать, ночуй. А проповеди слушать я в церкву пойду. Собирайте-ка, бабы, со стола! Время!
Прибрали снохи, и кажный к своему месту пошел, где кто ночует.
И старичок на лавку лег. Суму под голову — да разом и заснул. Видать, притомился с дороги.
А хозяину не спится — раззадорил его прохожий. Лежит он на перине своей и все думает:
«Вот ведь, — едва через порог перешагнул, а уж учит! „Погляди-тка по сторонам!“ Да я в своем дому не то что кажный сучок, а кажную задоринку, кажный гвоздик знаю. Хошь по пальцам перечту…»
Прижмурил он глаза поплотнее и давай считать да перебирать — всяку ложку, плошку да кочережку, где что лежит, да что стоит, да что висит, — и в красном куту и в сенях, и на печи и в подпечье, — словом сказать, — от воронца до голубца…
И что ж ты думаешь? Ведь позабыл, много кой-чего позабыл. То новый рукомойник пропустил, что старшо́й намедни из городу привез, то шкапчик для струменту, что меньшо́й сынишка коло двери повесил… А уж бабью-то снасть и вовсе не упомнишь!.. Где они что ставят, бабы-то!
Разобрало его зло.
«Нет, — думает, — шалишь! Не поленюсь, — встану да круг всего дома обойду. Кажну штуковинку своей рукой перещупаю. Уж тут не собьюсь».
Разомкнул он глаза. Видит — светло в дому, стоит против оконца новый месяц и прямо к им светит. Еще и лучше, огонь вздувать не надо.
Поднялся он с постели, ступил наземь… Что такое? Темно в избе стало, будто свет в небе погас.
«Эх, — думает, — не вовремя тучка месяц оболокла. Да, может, унесет ее ветром, — опять светло станет».
Поглядел он в оконце и диву дался. Стоит месяц в небе, как прежде стоял, и прямо к им в оконце светит. Смотрит, а не светит. Потому застит свет огромадная стень — половицы покрыла, по стенам стелется, в потолочины уперлась.
Ему ажно боязно стало. «Откуда, — думает, — эдакая темнота?» А потом пригляделся, да и видит: сам он эту стень наводит, своей головой, своей бородой…
Плюнул он с досады, да и пошел в обход — кажный гвоздь своей рукой щупает, кажну плошку по названью величает. Ходил-ходил, шарил-шарил, и тесно у него стало на сердце. Вон оно как!.. Стары-то гвозди ржа съела, ажно шляпки отскочили, стары-то плошки в щербинах да в трещинах, а новое добро рука не узнает.
Призадумался он, почесал в затылке… Эх, да и затылок не тот. Вся голова не та. Была голова кудрявая, стала плешивая. Вот она — старость!.. По родной земле ходишь, да земля худо носит, в своем дому живешь, а дом-то будто чужой!
А что еще у сынов-то будет, в тех клетях то есть, где сыны спят? И стен, чай, не признаешь, а не то что этой мелочи всякой.
Ух, разгорелась в нем обида…
«Что ж это? — думает. — Рано волю забирать стали, на свой лад весь дом переворотили! Я еще тут хозяин. Пойти посмотреть, как там да что!..» — И пошел.
Заходит в тую клеть, где старшой со своей спит. Отворил дверь, да так и стал на пороге.
Видит, бьется дубинка от полу до потолка — оземь ударится, — кверху подскочит, в потолок стукнется, — наземь упадет, да опять — вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз…
Затворил он скорей дверь и пошел к другому сыну — что там будет? А там и того хуже.
Лежит между мужем и женой, как дитя малое, змей чешуйчатый. Словно веревкой их заплел.
Чуть хозяин на порог ступил, поднял змей голову, глазами светит, жалом поводит. Они-то спят, а он, небось, не спит, не дремлет…
Ох ты, страсти какие!.. Вот уж не ждал, не гадал.
Ушел он скорее от них, дал змею спокой.
Заходит к меньшо́му. А у меньшо́го-то хорошо: всякий сучок в стене в рост пошел, веточкой стал, всяка веточка — в листочках, и перепархивают с веточки на веточку две птички, играют, щебечут, словно уж и ночь прошла, словно солнышко поднялось.
Хорошо, а страшно!
Вышел он оттуль, пошел на сеновал.
Только прилег на сене, вдруг и слышит, будто какой человек стонет: «тошно животу моему! ох, тошно животу моему!»
Встал он скорей, пошел на гумно, — а там кричат: «прибери меня! прибери меня!..»
Он и оттуль ушел, стал коло изгороди, пот со лба отирает. А с-под изгороди кричат: «выдерни да вторни! выдерни да вторни!»
Повернулся он — и домой. Только перешагнул через порог, а ему из печи, эдак с-под чугуна, голос: «на бобре вишу, с бобром упаду».
Он еле живой до места добрался. Повалился на постель, и словно туманом его покрыло. До самого утра как пьяный проспал.
А чуть утро на двор, пошел он к этому прохожему да и говорит:
— Вот что, человек добрый, — было мне ночью видение. Мы люди простые. И толк есть, да не втолкан весь. А ты, кажись, человек бывалый. Разберись-ка, сделай милость, что к чему.
И рассказал ему все до точности, что ему ночью привиделось.
Послушал его старичок, послушал, головой покачал.
— Ну, спрашивай, — говорит. — А я тебе отвечать буду.
Тот и спрашивает:
— Что это означает, что стень моя весь свет отымает?
А тот ему:
— Много ты, батюшка, места в дому своем занимаешь. Другим развернуться негде, головы не поднять. Тяжелая у тебя рука…
Вздохнул хозяин.
— А что за дубинка, — говорит, — у старшо́го в клети бьется?
— А это не дубинка, — это ум-разум евонный. Приспела мужику пора самому большаком быть, своим умом жить, да отец воли не дает, да братья не слушают. Вот и тесно ему во своей клети — так бы и проломил стены-то.
— Ишь ты! А какой такой змей у середних живет, на постели у них греется?
— Это зависть да хитрость ихняя. Они-то спят, а зависть не спит, не дремлет. Все-то свербит, все-то жалит: большуха-то богаче, меньшуха-то краше, старшо́й умней, меньшо́й веселей… Так как бы их круг пальца обвесть, на свой лад переворить, на первое место выскочить?.. Смекаешь?
— Самому бы невдомек… А что за птички у молодых в клети порхают?
— Ну, это душеньки их ангельские, веселые. Светло живут, тепло живут молодые твои. У них, чай, веник старый и тот зацветет…
— А кто