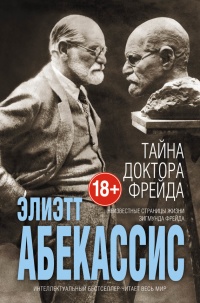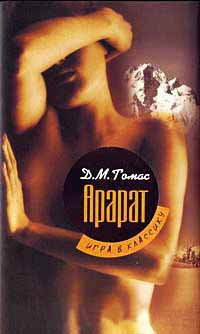Спальня во Фрайберге погружена во тьму. Якоба (если это он) сотрясает оргазм, потом он затихает и, тяжело дыша, сползает с Амалии. Она лежит, подсунув руку ему под голову и уставившись в потолок. В соседней комнате, на другой половине дома, тихо похрапывает фрау Зайич. Ее муж, прислушивавшийся к слабым звукам, вздохам из половины соседей, крестится и поворачивается на бок, собираясь уснуть. Черт их побери, этих евреев, думает он, у них одно на уме. А у этого Якоба еще больше, чем у других. Сначала эта, хорошенькая, Ребекка, потом вдруг Амалия, вдвое его моложе! Неправильно это. Вечно они ебутся, ебутся, ебутся… А душа покойницы бродит, рыдает, рвет на себе волосы. Зайич ничуть не удивился бы, узнав, что это было убийство.
глава 37
В вонючем, набитом под завязку вагоне жарко и душно. Я всегда ненавидел душные вагоны. Помню, в юности я ехал куда-то на поезде и открыл окно, а мои попутчики напустились на меня со словами, что приличные, мол, люди всегда думают о других, не то что такие, как я, пархатые жиды. В отличие от отца, я не пасовал перед их антисемитскими выходками. Обо всем этом я писал и рассказывал Марте.
На этот раз мои попутчики — тихие, бедно одетые люди — не возражают, когда я открываю окно. Мне приходится его закрыть, когда в вагон, осыпая нас хлопьями сажи, проникает мерзкий фабричный дым. Мы прибываем в Лейпциг. У меня волосы встают дыбом, когда я вспоминаю газовые фонари; наверно, те же самые. Мы побывали здесь в первый год наших скитаний после отъезда из Фрайберга. Тогда я думал, что горящие фонари — это ад. Должно быть, я вспомнил зловещие предостережения Моники.
Поезд медленно движется вперед. От жары и духоты меня начинает клонить в сон. Я сплю с резкими, короткими перерывами, когда моя голова понемногу склоняется, а я следом за ней чуть не заваливаюсь на бок. Я пытаюсь добраться до Гамбурга. Хочу побывать на могиле Софи. Поездка не из дальних, но на какой-то станции поезд задерживают — мы стоим бесконечно долго, пока военная полиция рыщет по вагонам, проверяя документы пассажиров. Когда очередь доходит до меня, они сбиваются вокруг подозрительной кучкой. Меня заставляют сойти с поезда, и допрос продолжается в каком-то бараке. В конце концов они все же решают, что я австриец, и позволяют мне вернуться в поезд.
Вагон теперь пуст, все мои бывшие попутчики сошли. Свисток — и поезд трогается с места. На следующей станции входит пухлый предприниматель. Рассказав ему, с каким пристрастием меня допрашивали на предыдущей станции, интересуюсь, не знает ли он, чем была вызвана эта проверка. Он смотрит на меня с насмешкой и удивлением.
— Это же была граница, — поясняет он. — Вы что же, не знаете, что Германия разделена? — Махнув пухлой ручкой с перстнем на пальце в ту сторону, откуда я приехал, он говорит: — Там тьма, а здесь — свет! — Он ухмыляется, его превосходные белые зубы сверкают.
В его последних словах я слышу отзвук характерной картины Шагала «Между тьмой и светом» — ее репродукция была в книге, подаренной мне Сальвадором Дали, который недавно побывал у нас. Насколько помню, на картине Шагала изображены лица двух влюбленных — они прижались друг к другу, они неразлучны. От картины веет снегом, предчувствием беды, отчаянием.
Над этим сновидением с такой очевидностью витает смерть, что оно кажется почти тривиальным. С раннего детства я знаю, что путешествия на поезде стирают грань между жизнью и смертью. Нагота моей матери; пылающие газовые фонари ада. Только во сне, как и на картине Шагала, было трудно определить, что именно тьма, а что — свет.
И даже на этом последнем этапе я все еще цепляюсь за свою индивидуальность. Я — австриец! И они позволяют мне вернуться в свет — подсаживают этакого самодовольного и заплывшего жирком немецкого предпринимателя. Мне одинаково душно по обе стороны границы.
Уж если кто и разделен, то, конечно же, я. Немец — еврей. Какая из моих половин — тьма, а какая — свет?
Мужчина — женщина. Ученый — художник. Пуританин — Казанова. Атеист — верующий; ведь только тот, кто в некотором смысле верит в своего Отца, страшится Его, будет с такой одержимостью пытаться его убить.
И когда будут опубликованы и вызовут неизбежную полемику любовные письма Флисса к Минне, не упускайте из вида этот мучительный разлом, эту двойственность Берлина и Вены, арийца и еврея, носа и вагины, аскетизма и страсти, скальпеля и пера, разума и души. Если бы в то время я не писал сам себе писем, то сошел бы с ума, придушил бы в колыбели младенца или выбросился на ходу из поезда.
Я иду по болотистому лесу, который кажется бесконечным, и вдруг ко мне присоединяется знакомая фигура — маленькая, пухленькая, с поблескивающими на солнце очками: это мой старый недруг Адлер{149}. Вспыхнувшая было во мне враждебность гаснет — я вспоминаю, что Адлер давно умер, а следовательно, передо мной диббук. Он довольно весело подтверждает это и на час или два составляет мне веселую и приятную компанию. Заметное улучшение по сравнению с оригиналом!
Случайно брошенное им замечание — и я вспоминаю забытый фрагмент сновидения. Я был в Израиле, стране, где правят евреи, но в наше время. Тюремная камера. Я имею в виду, что действие сновидения происходит в тюремной камере, а не то, что Израиль — тюремная камера. (Хотя, в отличие от Мартина и Эрнста, у меня всегда были большие сомнения относительно создания сионистского государства, если только оно не будет создано где-нибудь в отдаленном и безлюдном районе земли.) В камеру, где сидит бледный, ничем не примечательный человек, входит смуглый, мускулистый охранник в шортах и рубашке с короткими рукавами, с кобурой на поясе. Заключенный сидит за столом. Вид у него кроткий, хотя я (неизвестно откуда) знаю, что его обвиняют в убийстве миллионов евреев. Его зовут Эккерман или Эйхман.{150}
На столе книга. Вижу ее название — «Лолита». Заключенный вручает книгу охраннику со словами: «Das ist aber ein sehr unerfreuliches Buch» («Это крайне оскорбительная книга»).
Этот фрагмент сна, как мне кажется, тоже связан с человеческой индивидуальностью. Как заключенный, как немец, я — Ich-Mann — творил оскорбительные книги. Похоже, что «Лолита» — это фривольное продолжение «Доры» и «Градивы». За «Моисея и монотеизм» я был обвинен в духовном убийстве миллионов своих соплеменников. Но еврей-охранник кажется невозмутимым. Может быть, терпимость проистекает из его довольно нееврейской внешности. Он совсем не похож на расхожее представление о еврее — бледный, за толстыми стеклами очков моргающие глазки, сутулится над ветхими книгами в молельном доме и боится солнечного света, как летучая мышь. Здесь ариец, которому полагается быть широкоплечим и высоким, сутуловат и близорук, зато еврей воплощает собой идеал мужества — настоящий Давид.
Диббук Адлера покидает меня, я бреду дальше, заблудившийся в мыслях, заблудившийся в этой стране теней, где сливаются воспоминания и фантазии. В имени Лолита те же гласные, что и в имени моей няньки и сексуальной наставницы — Моника. Я, Ich-Mann, был самым чувственным и даже женственным из всех детей и тем самым подвигнул ее на попытку спасения моей души. В церкви она сажала меня к себе на колени и, пока священник гнусавил латинские фразы, тайно ласкала мою писюльку, чтобы я не плакал и сидел тихо. Она крестила меня в своей крови и заставила меня целовать — грубовато и неуклюже — самое священное из всех мест. Это из-за нее я долгие годы бродил у стен Рима и не мог войти, и не мог избавиться от навязчивого желания войти.{151}