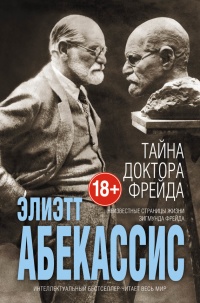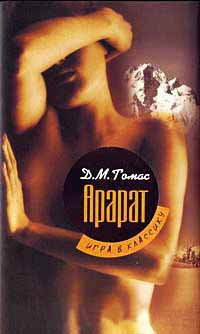Мать сказала:
— Раз уж ты, Зигмунд, великий врачеватель и сочинитель снов, мы решили сделать тебя шаманом. Но прежде я должна знать, веришь ли ты в Дух?
Она произнесла другое слово — душа, и я сказал: да.
— Хорошо, — сказала она. — Тогда, чтобы создать тебя заново и излечить, мы должны сначала тебя убить.
Мои глаза закрылись, и я почувствовал, что от меня отрывают конечности и вытаскивают из меня внутренности. Я слышал, как моя мать сказала, что меня набивают камнями. Был слышен звук барабана. Я открыл глаза: я снова был целым.
— Теперь ты можешь летать, как летучая мышь, — сказала мать.
Взмахнув крыльями, я поднялся к верхушкам деревьев. Когда я вернулся на землю, мать сказала, что им пора, мое же пребывание в этом мире еще не окончено. Со временем мне будет дарована жена-дух или жены, если я захочу. Они будут помогать мне в моем врачевании.
— Это обещание того, что произойдет, — говорит она, и ее птичий клюв наклоняется к моему пенису. Я чувствую, как ее мягкие губы под клювом смыкаются вокруг меня, как теплый язык касается нежной головки; у меня тут же происходит эрекция. Я думаю об Исиде, вернувшей Осириса к жизни путем фелляции. Мать и ее двое-трое сопровождающих прощаются со мной.
Двинувшись дальше, я обнаружил, что под ногами у меня болото и идти становится все трудней. Болото превратилось в грязный, темный поток, широкий, как улица. К счастью, кто-то оставил здесь старую ржавую лодку, привязав ее гнилой веревкой к стволу. Я ступил в лодку, но она чуть не перевернулась и зачерпнула воды. И все же с помощью шеста я как-то перебрался на другой берег. Идя дальше, я вдруг увидел скорчившегося под деревом человека — босого, в длинном рваном одеянии. У него были длинные, спутанные волосы и борода. Прилив чувств — я узнал его. Я был близко знаком с ним, но никак не мог вспомнить — уже второй раз в жизни — его имя. Я заковылял в его сторону. Увидев меня, он слабо улыбнулся и встал на ноги.
Как же его звали?.. Боттичелли? Больтраффио? Палинур?{140}
— Зигмунд! — воскликнул он, протягивая руки.
Трижды я пытался обнять его, и трижды мои руки проходили сквозь пустоту.
— Синьорелли! — вскричал я, вспомнив о сходстве наших имен.{141}
Мы уселись и завели непринужденный разговор. Я поблагодарил его за иллюстрации к моим теориям, написанные им на стенах собора Орвието: за фрески, которые изображают обнаженных мужчин и женщин, подвергающихся садистским пыткам, за взлохмаченную женщину со сладострастным выражением на лице, скачущую по небу верхом на плотоядного вида дьяволе. Синьорелли, мой кормчий.
Я рассказал ему о том, что встретил свою мать с птичьим клювом.
— Это диббук, — сообщил он. — Некто, укравший тело твоей матери. Надеюсь, ты не попался им на удочку?
— Конечно, нет.
— Ужасное место, — сказал он. — А откуда ты идешь?
Я колеблюсь, название ускользает от меня. Не очень уверенно отвечаю:
— Из Вены.
Он морщится:
— Тоже не лучшее место. Ну что ж, желаю удачи.
Я расстаюсь с ним, и вскоре болотистый лес становится суше и в конце концов превращается в выжженную землю, усыпанную белыми черепами. Много часов бреду я по этой бесплодной земле. Из марева на горизонте возникают две фигуры, они движутся в мою сторону. Когда они приближаются, я, к своему удивлению, узнаю Марту и Минну. На руках у Марты малютка Анна. У сестер измученный вид.
Почему они здесь? Почему не предупредили меня, что придут?
Судя по их возбуждению и радостным жестам, они вроде бы нашли колодец. Пытаюсь подбежать к ним, но не могу сдвинуться с места, мои ноги словно припаяны к земле. С ощущением беспомощности приходит страх: я знаю, что на дне колодца лежит питон Юлунга.
Как говорится, тут я уже был.
Женщины разожгли костер и набрали овощей, чтобы их сварить. К несчастью, все овощи вываливаются из котла и исчезают в песке. Женщины безутешны.
Марта укачивает Анну (чего в действительности никогда не делала). Минна сидит на корточках над колодцем. У нее из пизды (используя слово, пользоваться которым ее научил Флисс) хлещет кровь. Я рад, что у нее менструация.
Небо темнеет; льет дождь, сверкают молнии. Сестры танцуют и поют вокруг костра, пытаясь согреться. Они так увлечены, что не замечают, как из колодца вылезает гигантский питон Юлунга. Я вижу его, но, охваченный ужасом, не могу закричать и предупредить их.
Вместе с ребенком они укрылись в хижине. Юлунга раскрывает пасть и проглатывает хижину, а я ничего не могу поделать. Я вижу, как хижина, сестры, ребенок на моих глазах втягиваются в глотку змея. И весь змей — одна огромная глотка.
Должно быть, я потерял сознание, как это дважды случалось со мной под напором Юнга. Но Юлунга еще хуже, чем Юнг.
Когда я просыпаюсь, небо уже чисто. К скорби примешивается мысль о том, что увиденное в этом сне происходило на самом деле, как на самом деле Шлиман обнаружил Трою.
Это случалось, это случается.
Меня наполняет чувство облегчения. Обитатели сновидения не умирают. Вспоминаю, что Юлунга выблевал проглоченных. Или, по крайней мере, детей. Вот что имеет значение: ребенок.
Остальная часть пути небогата событиями. К ночи я добираюсь до Львова (Лемберга) и нахожу приют в небольшой гостинице.
Я прерываю прозаичный рассказ, чтобы записать сновидение. В нем я брожу по улицам города в поисках собратьев-евреев, которые могли бы рассказать мне о моих родителях — Якобе и Амалии Фрейд. Здесь должна быть тьма евреев, но мне долго не попадается ни одного. Даже в гетто пусто. Наконец в какой-то лачуге натыкаюсь на трех евреев-хасидов: двух мужчин и женщину. Они сообщают мне, что, за исключением их самих и горстки других, все евреи города уничтожены. Выжившие избежали общей судьбы, спрятавшись в сточных канавах. Несколько лет, по их словам, они выносили невероятные страдания. Старший из мужчин, с седой бородой почти до пояса, рассказывает, как однажды вечером посреди зимы трех его братьев посадили в наполненную водой бочку, и на следующее утро ему пришлось топориком вырубать их тела из ледяной глыбы. Но еще ужаснее то, говорят они мне, что выбор кандидатов на депортации возложен на Еврейский совет.
Лица у моих хозяев были потусторонние, как у зомби; они были едва похожи на живых людей. Европейское еврейство истреблено, сказали они.
Это, несомненно, реализация тайных желаний, в данном случае желания истребить в себе все еврейское. Чувство вины, возникающее после этой «нечестивой» мысли, частично сглаживается другим соображением: ведь евреи, как мне было сказано, отчасти сами виноваты в своих скорбях (наш собственный совет осуществляет выбор жертв). Но, конечно, попытка отсечь все еврейское от трех мужчин нашей семьи — отца, брата и меня — была бы подобна попытке вырубить плоть из ледяной глыбы.