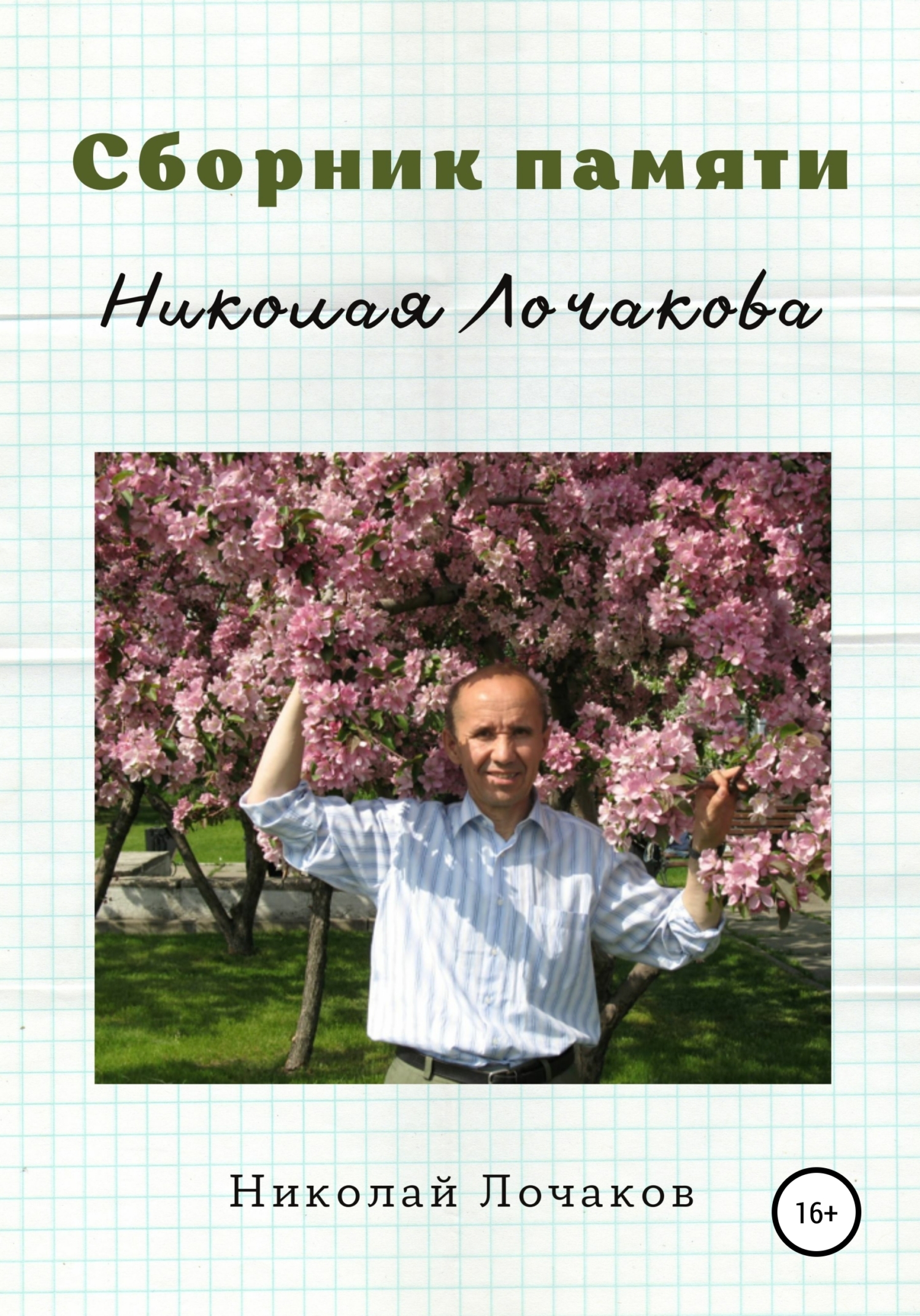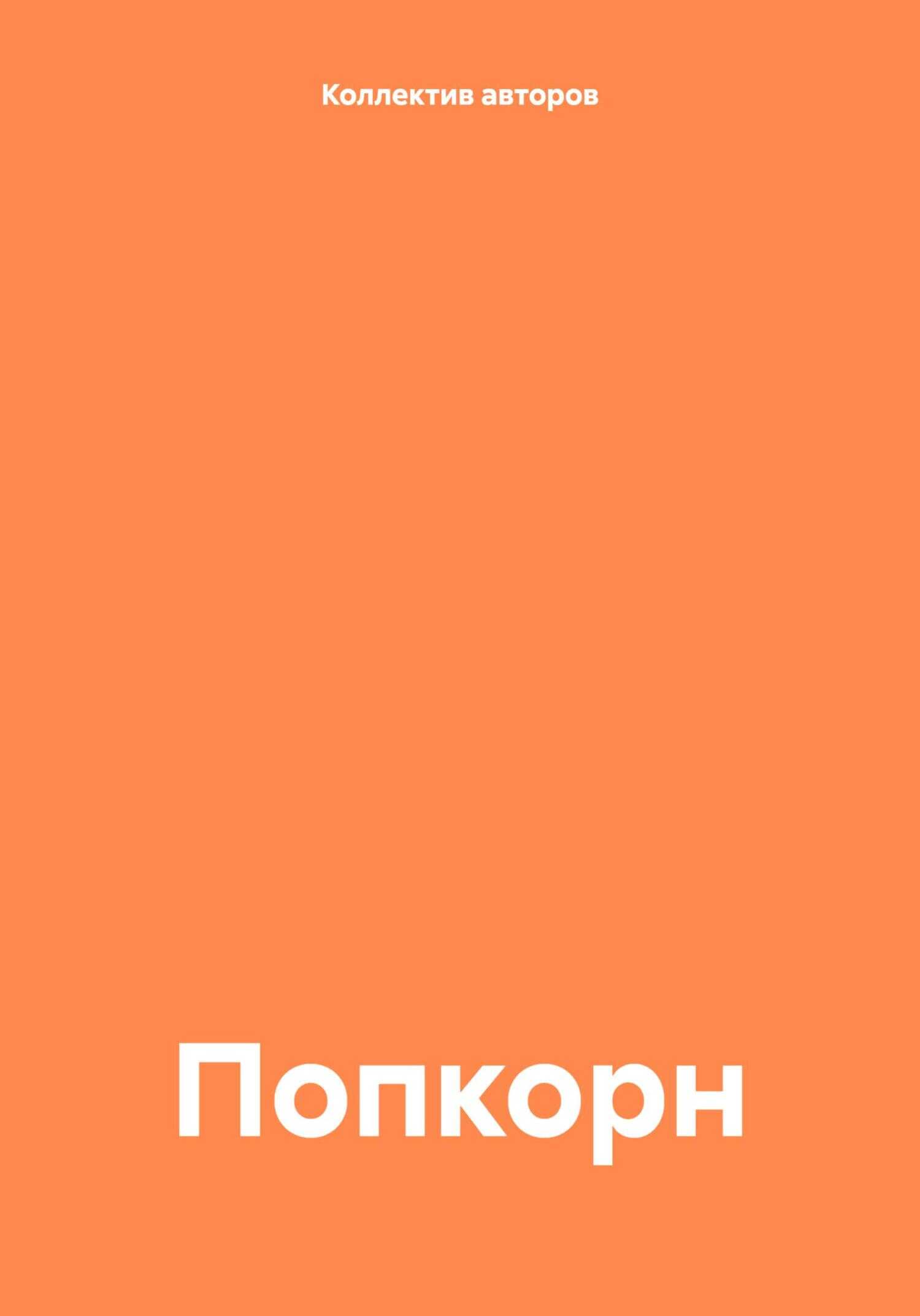много. Итак, украв трехпенсовик, я потерял хорошую работу.
До сих пор слышу, как тот священник говорит мне, что я виновен в краже денег у церкви, и что это смертный грех. Он имел в виду, что я воровал у него деньги. Но он был хорошо известен как пьяница, который между выпивкой и букмекерскими конторами тратил кучу денег, не принадлежавших ему, поскольку священники должны быть бедными. Я также часто видел его на матчах «Манчестер Юнайтед». Даже когда я был молод, то не считал, чтобы он имел какое-либо право читать мне лекции о грехе.
Со всеми нашими переездами с места на место я закончил тем, что учился в нескольких разных школах, которые, думаю, не сильно повлияли на мое образование. По крайней мере, я ходил в школу — об этом позаботились мои родители, — но никто бы не назвал меня блестящим учеником. Однако я всегда был очень хорош в математике, и особенно в умственном счете, который нашел проще простого. Но у меня было ужасное заикание, из-за которого говорить в классе было мучением, даже когда я был уверен, что знаю ответ. Нельзя также сказать, что учителя моей начальной школы в Уокдене хоть как-то этому способствовали. Однажды мы ставили школьный спектакль «Крысолов из Хамельна»[13]. Мне дали речь, но в последнюю ночь репетиций все шоу пришлось отменить, потому что я не смог произнести ни слова. На следующий день один из учителей принес магнитофон, чтобы записать наши голоса. «Вот как ты звучишь», — сказал он, проигрывая кассету после того, как я заикался и бормотал в микрофон. Постепенно я избавился от заикания, полагаю, в основном благодаря службе в армии, но и по сей день я ненавижу слушать свой голос на пленке.
Когда я своровал медали моего отца, мы жили в муниципальном доме с тремя спальнями на террасе в Литтл-Халтоне, гигантском жилом комплексе, построенном для людей, которые, как и мы, были переселены из трущоб солфордского дока, подлежавших сносу. Мы были бедны, хотя и не знали, насколько, потому что все вокруг нас были такими же. Некоторые из наших соседей стояли настолько близко к черте бедности, что пили из банок из-под варенья и собирали уголь, который падал на дорогу из железнодорожных вагонов. У нас ситуация была чуть лучше, но все же далека от того, что можно было бы назвать комфортом. Например, каждый день мы получали разбавленное молоко. Моя мать покупала пастеризованное молоко в бутылке с крончатой пробкой, похожей на те, что до сих пор используются на пивных бутылках, брала две такие же пустые бутылки, наливала в каждую треть молока, затем заливала их холодной водой из-под крана и снова защелкивала крышки. Таким образом, у нас получалось три пинты молока из одной, что хватало нам на целый день.
Имея на жизнь лишь скудную зарплату отца, которую он получал в пекарне, к четвергу каждой недели у нас всегда заканчивались деньги на еду, поэтому в эти дни мы ели тосты с жиром. Мы с братом тоже приходили по четвергам домой из школы в обеденное время, потому что у нас не хватало денег на школьные обеды. Пятница, когда моему отцу платили, была в нашем доме большим днем — тогда у нас появлялись деньги.
Тем не менее, хотя у семьи никогда не бывало лишних средств, в детстве я сам никогда не испытывал нужду, в основном потому, что я много жульничал. После школы я рубил дрова для старого цыгана, который жил неподалеку. Мы связывали их в вязанки, и потом он ездил на своей тележке по домам и продавал их. За помощь мне всегда доставалось несколько шиллингов, а мелочь, которую он оставлял в доме, также находила путь в карманы моих штанов. Если цыган и замечал это, то никогда ничего не говорил, — наверно, ждал, что я буду красть. Кроме того, у него были свои аферы, и он видел, что я всего лишь сопливый ребенок, который не представлял угрозы для какого-либо более серьезного мошенничества, которым он мог заниматься.
Что еще хуже, несмотря на предупреждение сержанта полиции, ограбление продавца дров было не единственной моей кражей. Сейчас это не повод для гордости, но в детстве я, кажется, тратил много времени и сил на то, чтобы быть нечестным. У моей матери в местном магазине на углу была карточка с отметками, где они делали скидку на то, что она брала, а оплачивала позже. (В «Хэрродс»[14] это называется «счет клиента», а в магазине на углу это называется «кредит»). Я приходил в магазин и говорил женщине за прилавком: «Моя мама хочет сифон содовой». Зачастую она смотрела на меня с интересом, поскольку люди в округе редко покупали газированную воду, поскольку не могли позволить себе виски к ней — разве что только на Рождество.
Так или иначе, магазин ставил сифон на счет моей матери, и я брал его, заходил за угол и выплескивал газировку в канализацию. Затем относил пустой сифон — в то время это были солидные стеклянные бутылки, обернутые в тонкую проволочную сетку, наподобие проволоки для курятника, — в другой магазин и получал залог в размере пяти шиллингов (25 пенсов) «обратно» за то, что сдал его. Когда моя матушка пошла оплатить счет в магазин, то поругалась из-за того, почему они взяли с нее плату за сифон с газировкой, которого у нее никогда не было, однако так и не поняла, что это был я.
Она так и не обнаружила ни одной моей аферы. Компания «Теско»[15] только что открыла супермаркет в Уокдене, примерно в двух милях от нашего дома в Литтл-Халтоне, и нас с братом отправляли туда покупать мясо для всей семьи на неделю. Мама всегда давала мне достаточно денег, чтобы купить коровье сердце. Сначала я брал его на прилавке с мясом и прятал на дне сумки для покупок — в то время у них еще не было проволочных тележек, — а затем покупал что-то очень дешевое, за что расплачивался на кассе на имеющиеся у меня деньги, которые мне давали, — не упоминая, конечно, что у меня в сумке спрятано коровье сердце. Вернувшись домой, я давал маме нужную сдачу за сердце, как будто действительно заплатил за него, а сам тайком клал в карман разницу между ценой мяса и мелочевки, которую я на самом деле купил. У меня всегда было чувство, что я крал только у «Теско», а не у мамы