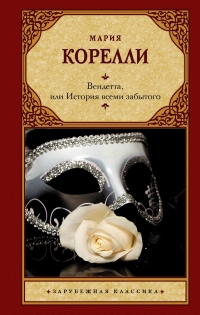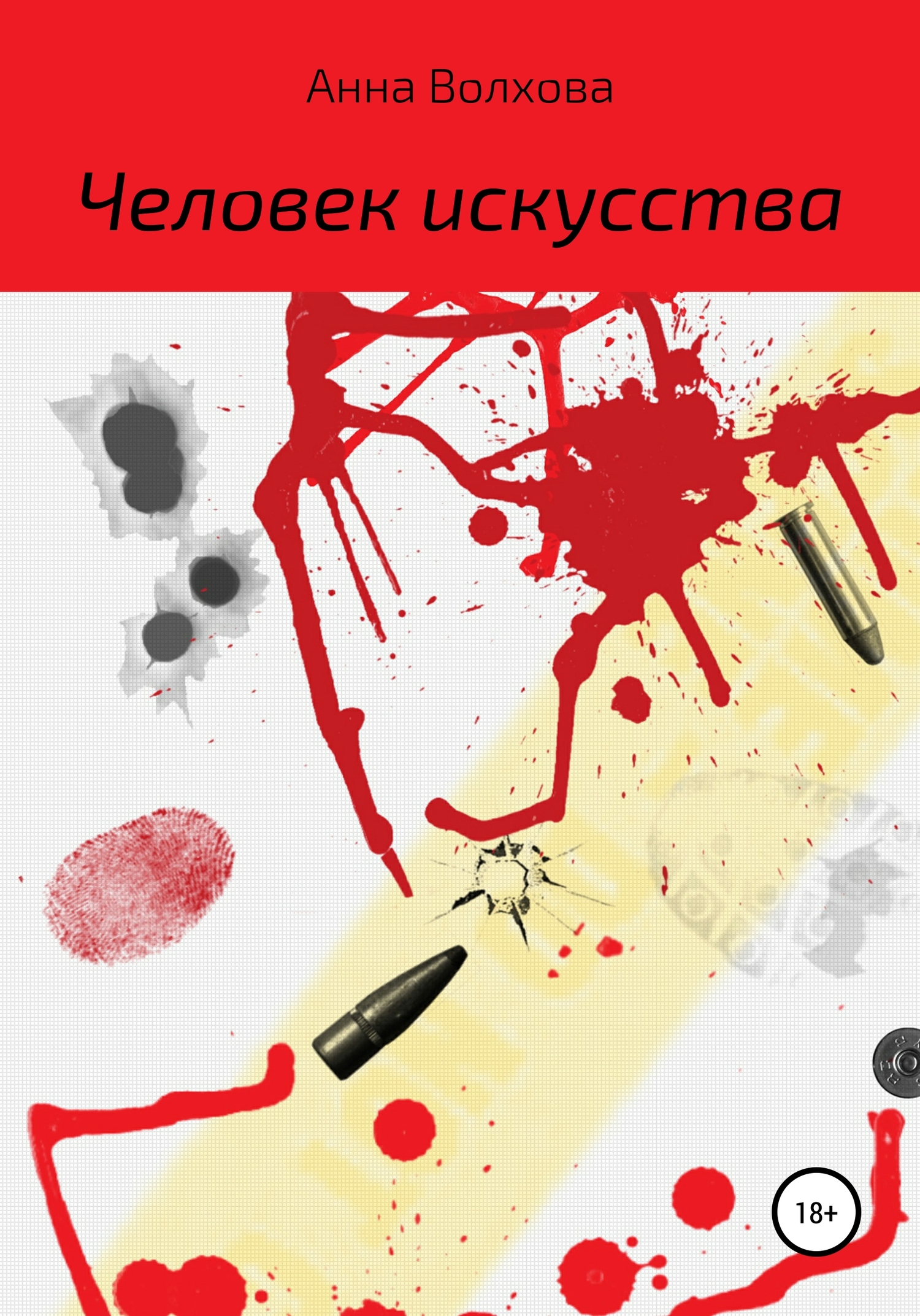шевельнулась снова и смахнула его из моих глаз, как слезу.
– Ты умеешь видеть, – сказала она. – Иди поешь и попей чаю, а когда твой заснет, приди сюда, тебя я и ждала… – Ее губы сложились в добрую улыбку. – Только мужу сегодня своему откажи… да он и заснет сразу, устал.
Так и случилось.
Муж провалился в сон, а я шмыгнула тихонько в комнату старой знахарки. Глаза у нее были прикрыты, а по векам и длинноватому тонкому носу скользил лунный луч. Но едва я подошла к ее кровати, она открыла глаза.
– Случилась в моей жизни един-единственная любовь, – заговорила она. – Полюбила я китайца, жил он здесь, в соседнем селе, а работал у моего брата, но, когда красные пришли, власть поменялась, брата моего убили… И он бежал в Китай… И пало на меня великое одиночество. Думала, не выдержу я, умру, но пришел ко мне во сне мой дед, самый сильный шаман рода чорос, и приказал мне жить сто лет и лечить людей. Каждую травку малую стала я знать, каждый недуг людской стал мне подвластен, но срок жизни моей, дедом назначенный, иссяк, как иссякает колодец, и люди идут и начинают искать новое место для другого колодца – так и я не могу уйти на тот свет, не передав хоть части моих знаний ведь мои знания, как колодезная вода, они нужны людям. Но в селе нашем живут грубые люди, по всей округе не нашлось того, кто способен видеть дальше своего двора, и вот послал мне дед тебя, так слушай, деточка, что сможешь запоминай, но знай: нельзя то, что услышишь, доверить бумаге, только памяти можно.
Всю ночь до рассвета передавала мне старая ведунья (не ведьма, внученька, а ведунья) свои знания, запомнила я многое, да не все, конечно, но кое-кому смогла помочь. И высшее мое образование мне нисколько в этом не мешало. А вот врачи часто не верили и удивлялись внезапному и просто чудесному выздоровлению. У твоего отца тыльные стороны кистей и руки до локтей были в бородавках – некрасиво как-то, он смущался своего безобразия (бородавки в моем сознании выросли тут же в шишки Димона, выступавшие из-под кожи рук и спины). И мази твой отец самые дорогие втирал, и прижигать к специалисту-дерматологу ходил – одна бородавка исчезнет, вторая появится, а я взяла суровую нитку, как старая знахарка тогда в Хакасии меня научила, повязала над каждой бородавкой узелок…
– И что? – спросила я, вспомнив, что никогда не видела у отца ни одной бородавки.
– Ни одной не осталось.
– Здорово! А что ты еще знаешь и умеешь?
– Умею кровь останавливать, ты это видела, и не раз, пульс менять, давление без всяких лекарств приводить в норму… В общем, кое-что помню. И от смертельной болезни знаю рецепт. Помогла одному хорошему человеку. Женщина с мужем, отсидевшие в лагерях по десять лет по 58-й статье, это были невинные жертвы, политзаключенные, вышли на свободу, он уже был тяжелобольной, мы с ней когда-то работали вместе, а у них после лагерей ни дома, ни имущества, ни денег – все конфисковали и разграбили, они решили уехать в село, я их пустила к себе на два дня, чтобы они в городе собрали нужные документы и немного пришли в себя, а ведь были еще и те, кто руки им не подавал, шарахался от них точно от прокаженных, хотя Сталин уже умер. Вечером она и сказала, что у мужа рак, врачи дают ему три месяца жизни. Вот и научила я ее, как вылечить его тем средством, которое от старой знахарки узнала, опасное средство, яд, передозируешь – смерть, недоберешь – не наступит выздоровление, она все запомнила, и они уехали с мужем в деревню. Через полтора года вернулись в город, он прошел обследование – рака у него не оказалось, он полностью выздоровел.
Бабушка назвала мне чудодейственное лекарство, которое помогло бывшему политзаключенному выжить. И сразу, как Димон сообщил свой диагноз, я оставила ему устное сообщение, рассказав об этом средстве и предупредив, что, если он его найдет, нужно, чтобы весь процесс лечения был под строгим контролем, желательно врачебным, особенно необходимо следить за работой почек. Димон не ответил.
Почему?
Или черная тень страха смерти – ненависть закрыла от него путь к помощи? Или он не поверил и предпочел ВИП-лечение от Инны Борисовны? Или его любовница удаляла все мои сообщения?
Но с разводом Димон все тянул. Пока был в силах. Родившемуся ребенку было семь месяцев, когда по городскому телефону мне позвонили из районного суда города Н. и сообщили, что он на развод подал. Димон уже не вставал.
* * *
Перед разводом я много думала о Димоне, иногда вспоминая что-то совсем пустячное, такую вот пушинку ольховую… В пору наших с Димоном катаний иногда я просила его остановить машину перед тем домом, с которым у меня что-то было связано; порой я делилась всплывшим облаком воспоминания с Димоном, порой нет, никогда он ничего из меня сам не выматывал, и не потому, что отличался тактичностью и деликатностью, к сожалению, таких черт в нем не было вовсе, а из-за эгоцентрического интереса, нарциссически замкнутого исключительно на самом себе. Впрочем, может быть, о себе я думаю слишком хорошо и моя вечная погруженность в себя воспринималась Димоном тоже как нарциссическое безразличие к нему, ждущему ярких проявлений чувств и утрированно подчеркнутой заботы?
В один из вечеров я легко уговорила его свернуть в расположенный всего в двадцати километрах от города дачный поселок, где в доме с мезонином мы дважды снимали дачу: первый раз – когда мне было три года, второй – через семь лет. Было начало ноября, дороги слегка подморозило, но выпавший неделю назад снег тогда же и растаял, а новый не спешил ему на смену. Кончалась вторая половина дня, как говорится, предзимнее солнце уже клонилось к закату, но было еще светло и очень тихо; поселок, почти полностью покинутый дачниками, почему-то грусти совсем не навевал, как навевают обычно опустевшие дачи, и казался умиротворенным, словно отдыхал.
Дом с бледно-синим мезонином сохранился, и я нашла его быстро: мы только свернули на третью улицу поселка, и я сразу узнала своего старого знакомца. Помню прямую и крутую лестницу, ведущую на второй этаж, она была деревянной и скрипучей, а ее коричневые, местами изъеденные жучками перила – такими шаткими, что за них опасно было держаться, но хозяйка, круглолицая и ко всему равнодушная, кроме телевизора, не спешила уговаривать своего щуплого молчаливого мужа, мелькавшего порой во дворе, их подремонтировать. Но ни хозяин, ни его жена не были злы: когда в первый наш приезд ко двору прибился черный щенок-дворняга с перебитой лапой, он постелил ему какое-то тряпье под лестницей, а хозяйка поставила миски для воды и еды, и мы с мамой по вечерам спускались по этой скрипучей крутой лестнице, чтобы налить Жучке в одну из мисок молока, а в другую положить остатки курицы или котлетку. Щенок медленно выздоравливал, одновременно превращаясь в юную, но уже взрослую дворнягу. Откуда взялось его имя, я не помню. Может быть, моя мама, любившая и знавшая наизусть и многие пушкинские стихи, и отрывки из его поэм и сказок, назвала так собаку? Но кличка прижилась.
И когда Димон притормозил у старого дома, в котором, судя по дымку из трубы баньки, кто-то жил и сейчас, я вспомнила все это и ощутила теплую мягкую ладонь мамы, сжимавшей мою трехлетнюю ручку, опасаясь, как