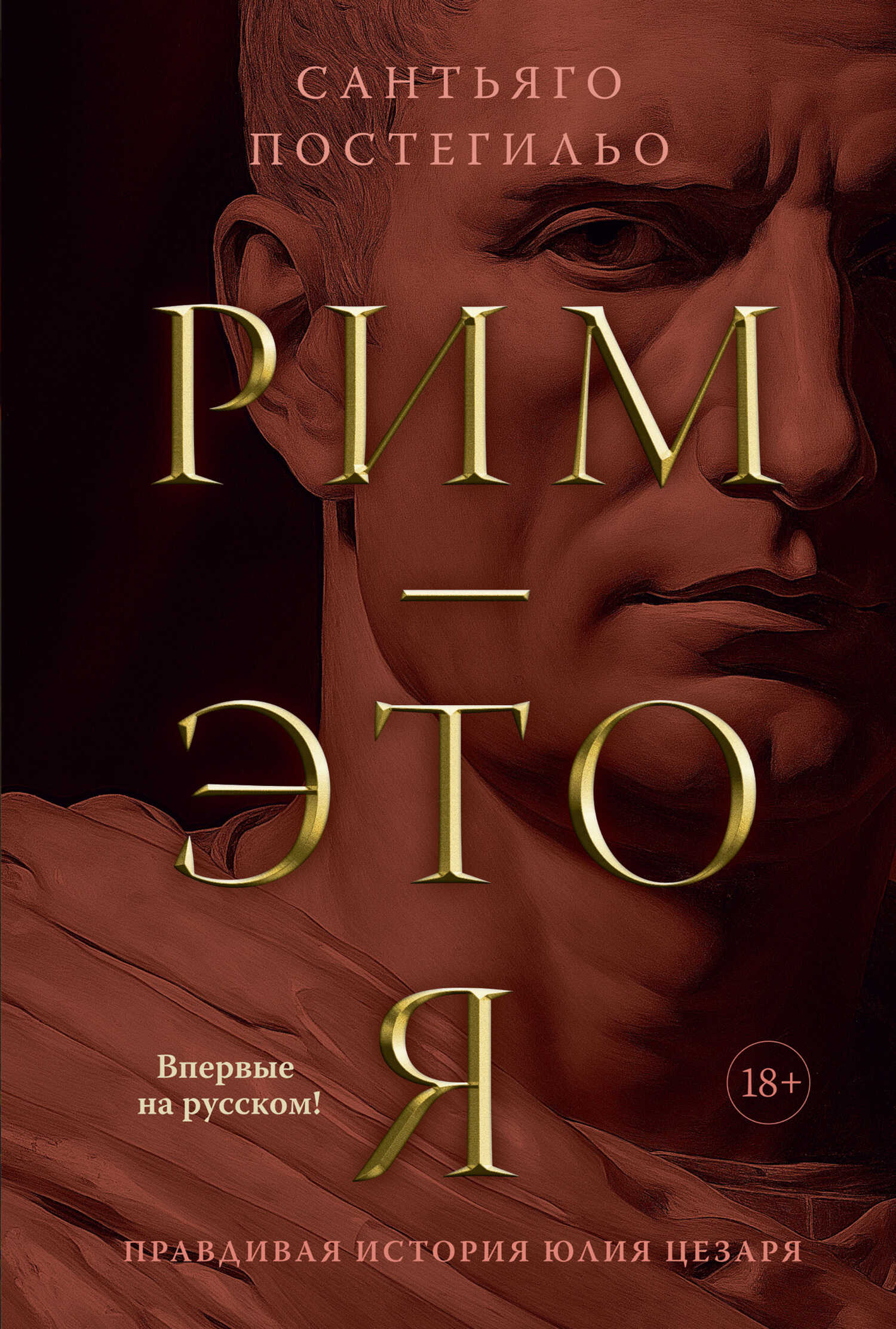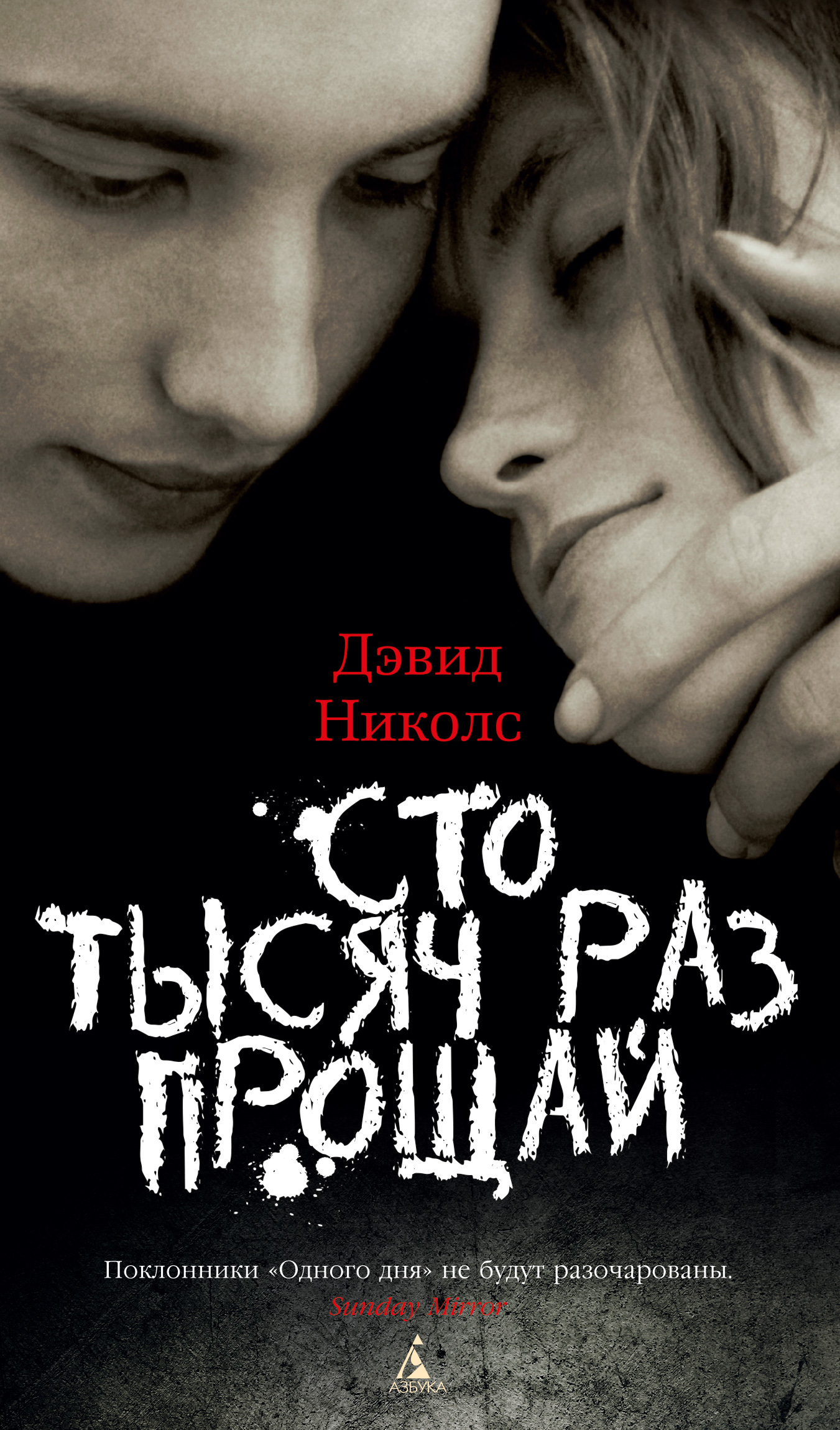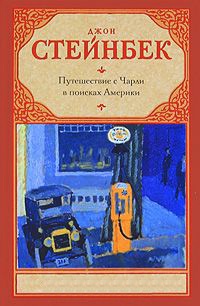на такую резкость, и обернулась к Чарли. – Пошли!
– Я только одно хочу вам сказать. – Поднявшись, Чарли обернулся к матери. – Вы очень много потеряли. – Собравшись с силами, он добавил: – Ваша дочь – лучший человек на свете.
Вот сейчас он был для меня идеальным. Лучше, чем мужчина мечты.
Моя мать так ничего и не сказала, но, выходя, я услышала, что она плачет. Пришлось приложить все силы, чтобы не обернуться и не броситься извиняться.
Шагая к машине, я надеялась, что она выбежит из дома вслед за мной. Окликнет. Никак не могла поверить, что она откажется от меня снова, во второй раз. Но забравшись на пассажирское сиденье, я позволила себе обернуться и увидела, что дверь дома закрылась.
Чарли молча вел автомобиль, я же, закрыв глаза, пыталась восстановить в памяти те минуты из детства, когда по утрам прибегала к маме в постель. Она помнилась мне мягкой, податливой. Я забиралась на нее, а ей это вроде как нравилось.
Но что, если эти моменты любила только я? Может, ей вовсе не хотелось, чтобы я лезла к ней в кровать? Как разобрать, где заканчивались мои чувства и начинались ее? Я не могла отчетливо вспомнить ее лицо в такие минуты. Как она реагировала? Отталкивала меня или обнимала? Кто теперь скажет? Мне запомнилось лишь, как светло было в родительской спальне и тепло под одеялами. И какой мягкий был у мамы живот, когда я утыкалась в него, обнимая ее.
Мы нашли квартиру, которую сняли через «Айр-би-энд-би», и Чарли позвонил Фэй сообщить, что мы доехали благополучно. По разговору я поняла, что она расспрашивает его о моей матери, а он уклоняется от ответа. Когда Чарли повесил трубку, мы вышли на крыльцо и сели в одинаковые садовые кресла. С террасы открывался вид на тихие занесенные снегом дворики окрестных домов, ничем не отличавшихся от дома моей матери. Уже смеркалось, небо налилось темно-синим, сквозь ветки деревьев проглядывал кусочек серебряной луны.
– Можно мне сигарету? – попросила я.
– Точно?
Я кивнула.
Чарли протянул мне пачку и, поднеся к сигарете зажигалку, сказал:
– Я думаю, она пьет.
– Что?
– Я про твою маму. Смотри, ходит в пижаме средь бела дня, при этом говорит, что ей надо уезжать. Дома бардак. Сама дерганая какая-то. – Он тоже закурил и выдохнул облачко дыма. – Говорю тебе, она алкоголичка. Ты не почувствовала запах спиртного, когда ее обнимала?
– Это не так, – возразила я. – Думаю, она просто не хочет иметь со мной ничего общего.
– А я спорить готов, что эти кружки по всему дому из-под выпивки. И Тодд этот наверняка тоже пьянь.
Я положила сигарету в пепельницу и прижала ладони к глазам.
– Черт, прости, Лея.
– Мне кажется, ты ошибаешься. Просто проецируешь.
– Я не…
– Если твой отец пьянь, это не значит, что моя мать тоже.
– Мой отец не пьянь, а дрянь, насколько я знаю.
Я обернулась к нему.
– Кроме меня, в семье из зависимых только мамин брат. А про отца мне известно только, что он француз, поэтому, наверно, я такой волосатый.
– А-а.
– Прости, – повторил он, протянул ко мне свободную руку, и я сжала ее. – Откуда мне что-то знать про твою маму.
– А мне про твоего отца. Все нормально.
– Ты сегодня совершила очень смелый поступок. Постояла за себя. Надеюсь, ты не обидишься, если я это скажу, но твоя мать просто трусиха.
– Не обижусь.
– Пошла она! – с неожиданной злость процедил он.
Той ночью Чарли пальцем нарисовал на моем животе круг – от места, где сходились бедра, до пупка. И сказал:
– Буду целовать тебя везде, кроме этого места.
Так он и поступил, начал с шеи, медленно двинулся к плечам. Задрал мне руки за голову и принялся целовать подмышки, опустился ниже, к внешним сторонам грудей. Прижимался губами к ребрам, груди, животу. Очертил контуры круга, но внутрь все не забирался. Сполз вниз, стал ласкать губами ноги, внутреннюю поверхность бедер, колени, икры, подъемы ступней. Когда же он, наконец, нарушил границы круга, я уже так изнывала от предвкушения, что готова была позволить ему что угодно.
22
Через несколько недель, дождливым апрельским вечером, в Публичной библиотеке Мэдисона состоялись заключительные чтения нашего семинара. Народ прибывал, постепенно занимая выставленные рядами стулья, и вскоре в зале остались лишь стоячие места. Все мои однокурсники пригласили своих родственников. Родители Вивиан приехали прямиком с Манхэттена. Мама у нее оказалась очень разговорчивая и эффектная. А папа, оглядывая битком набитый зал, все время повторял:
– Какой ажиотаж! Какой вечер!
Из Питтсбурга прилетели мать и брат Уилсона, уселись во втором ряду и стали болтать с соседями по стульям. Оба на вид казались еще сдержаннее Уилсона, но при этом так же располагали к себе – улыбчивые, всегда готовые податься вперед, если кто-то заговорит, они и смеялись точно как Уилсон.
Родители Роана – отец в костюме, мать в пурпурно-золотом сари – мгновенно со всеми подружились, особенно с родителями Вивиан. Жена Сэма, Кейти, приехала вместе с его матерью – они восемь часов гнали на машине из Канзаса. Теперь он сидел между ними весь напряженный, дерганый – раньше я никогда его таким не видела. Родители Дэвида устроились в первом ряду, сразу уткнулись в телефоны и не выказывали желания поговорить с кем-нибудь, даже друг с другом.
Мои родственники, занявшие почти целый ряд, общались только между собой. Нет, они вели себя вежливо, охотно отвечали на вопросы, но сами ни с кем не заговаривали.
Интересно, случайно ли человеку выпадает родиться в той или иной семье? Кое-что в жизни изменить нельзя: родителей, детство. Но можно ли изменить то, что сейчас происходит в этом зале?
Начались чтения. Слушая ребят с семинара, я так и лопалась от гордости. Конечно, все эти рассказы мне уже не раз доводилось читать, но впервые я видела, как их представляют перед публикой. Кое-какие места в процессе редактуры изменились, но в целом все тексты были мне знакомы. Я вспомнила, как мы вместе работали над ними на семинарах, – забавно, иногда рассказы изначально были такими сильными, что, обсуждая их, мы больше говорили о себе, чем собственно об истории.
В первый год, когда наши мысли еще не заняли агенты, издательства и контракты, все крутилось исключительно вокруг литературы. Как жаль, что больше такого никогда не будет. Однако в тот вечер мы словно вернулись в прошлое. В те дни, когда все только начиналось.
Пришла моя очередь, я встала и