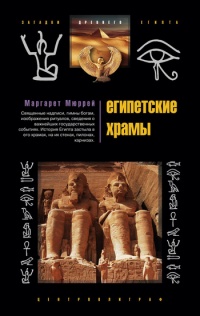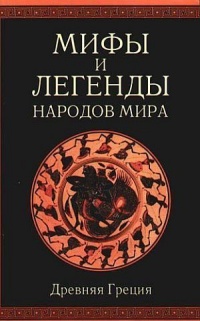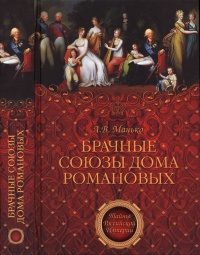свои предписания. Кальвин, желая воспитать дух своих прихожан, предлагал всё новые строгости. Уже запрещалось громко петь, прилюдно ругаться, ярко одеваться, танцевать … Для наблюдения за порядком назначались доверенные люди, обязанные докладывать городским властям о всех нарушителях … Совет с такими нововведениями кое-как соглашался, горожане согласиться уже не могли. Охотников отказаться от прелестей вольной жизни в угоду смирению перед новой верой во всей Женеве нашлось немного.
А тут как раз подошел срок новых выборов в городской Совет. И на этот раз сторонников недовольных горожан в нём оказалось гораздо больше, нежели сочувствующих Фарелю и Кальвину. Новый Совет предложил непоколебимым евангеликам смягчить свои требования, но те твёрдо стояли на своем и не пожелали отступить ни на полшага. Надо ли говорить, чем могло закончиться такое противостояние скалы и быка?
И Фареля, и Кальвина изгнали из Женевы. Не помогло им ни заступничество могущественного Берна, ни ходатайство синода церквей всего Швейцарского союза. В итоге Фарель отправился служить проповедником в городок Невшатель. Кальвин же, пройдя свои тридцать пять шагов по роковому мосту и проехав несколько десятков лье по швейцарским дорогам, оказался в Страсбурге. Женева, лишённая духовного призора, погрузилась в безверие. Оставшиеся в городе евангелики ни на что повлиять уже не могли.
Фиаско? Никогда! Он, Жан Кальвин, однажды и давно избравший своею целью служение Господу, ничуть не сомневался в правильности своего пути. Иного пути и быть не могло. Только служа Ему и следуя Его заповедям можно снискать благодать. Жить по-другому в мире, сотворённом Богом, просто немыслимо. Думающий же иначе пребывает в невежестве. Для спасения души требуется воспитать дух и выстроить уклад жизни едино по заповедям Христа. Пусть женевцы не поняли этого тогда. Когда-нибудь, волею Бога, они обязательно должны это понять. В глубине души своей Кальвин верил в это, как и в то, что все труды его в Женеве не должны остаться напрасными и город вспомнит о нём.
Минул год, другой и Женева его вспомнила. Сначала с грустью, потом с мольбой и надеждой. Сладость вольной жизни без веры обернулась горечью. Расхристанный некогда город теперь претерпевал упадок. Прежняя вера была поругана, новая вера исторгнута. Нравы храмовые сменились нравами кабацкими. Забыв закон Божий, горожане начали презирать и законы мирские. Строгие же одёргивания в виде указов некогда уважаемого городского Совета толку не давали и всё чаще вызывали в толпе горожан или смех, или отвращение.
Обо всём, что происходило в Женеве, Кальвин узнавал из писем своих немногочисленных почитателей, оставшихся в городе. Сначала в этих письмах слышалось сетование, что без пасторского надзора город всё больше увязает в трясине лжи и безверия. Потом авторы стали невзначай интересоваться, не хочет ли мсье Кальвин снова вернуться в Женеву проповедовать, тем более, что для этого благого дела нет более никаких препонов? Позже ему стали присылать приглашения занять место первого пастора собора Святого Петра, главного храма Женевы. Далее, не добившись его ответа, из Женевы в Страсбург один за другим потянулись сначала отдельные уполномоченные, а за ними и целые делегации от городского Совета и генерального собрания Женевы с настойчивыми просьбами к достопочтенному мэтру Кальвину «почтить своим присутствием их гостеприимный город для привнесения в стены его света нового духовного исповедания, установленного в полном согласии с заповедями Господа нашего Иисуса Христа и явленного миру по воле Его».
Кальвин, до того гражданин Страсбурга, заурядный нотариус при цехе портных, в который ему пришлось вступить, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, теперь превратился в достопочтенного мэтра Женевы. Он долго не мог решить, как поступить. Вернуться? Но не повторится ли прежняя история? Досада и обида за своё не столь давнее изгнание всё никак не изглаживались в его памяти. Но где-то в глубине души уже затеплилась радость. Выходит, что он был прав и люди это признали.
Как бы то ни было, а на всё воля Господа. Сомнения и раздумья остались позади и в прошлом. Сегодня же достоуважаемый мэтр Жан Кальвин въезжал в Женеву. Дозорный на стеновой башне, едва завидев увенчанную штандартами карету, в которой конечно же ехал Кальвин, прогудел в трубу сигнал «командующий в лагере». Солдаты, охранявшие городские ворота, выстроились во фронт и приветственно забряцали оружием. Едва карета въехала в ворота, как город, до того словно погружённый в дрёму, внезапно оживился. В окнах домов замелькали удивлённые лица, кто-то выбегал на улицу, крича на все лады il est arrivé! va tout au temple!21 Другие, услыхав забытые слова, наскоро одевались и выходили из своих домов. Завидев карету, все радостно шумели и рукоплескали, а когда она проезжала дальше мимо них, спешили вслед за ней. Очевидно, Кальвина здесь ждали. Его карета неспешно катилась по улицам Женевы, увлекая за собой всё увеличивающиеся толпы по-доброму взбудораженного народа. Обычный серый день, похоже, превращался в праздник. И праздник этот дарили жителям не труппы актеров и менестрелей и не календарные щедрости городских властей, а всего лишь один единственный человек, проповедник, принесший Слово. Кальвина ждали в храмах, школах, домах и площадях, ибо верили, что он словом и делом своим может привнести покой и умиротворение в умы и сердца горожан, а вместе с этим и порядок в дела всего города.
Наверное, поэтому городской Совет ждал приезда Кальвина как никто другой. В ратуше давно знали о дне его приезда. Городские чиновники уже позаботились и о должности, что займет мэтр Кальвин, и о его жаловании, и о доме, в котором тот будет жить, и даже о новой мантии для него. Сегодня же его ожидала торжественная встреча. Однако сигнал дозорного как всегда застал врасплох. Все, кто находился в ратуше, засуетились, устраивая последние приготовления. На этот раз Женева не должна ударить в грязь лицом!
Несмотря на царящий во всей ратуше шум и суматоху, в кабинете первого синдика городского Совета висела тяжелая тишина. Хозяин кабинета, невысокий тучный господин с редкой сивой бородкой сидел за своим рабочим столом. Однако по его нескладной позе, бегающим глазам и подобострастию, с которым он обратился к своему собеседнику, вальяжно расположившемуся в отдельно стоящем кресле с высокой спинкой, вряд ли можно было угадать в нем хозяина. Скорее наоборот. Собеседник его, почтенный, преклонных лет муж с густой, давно поседевшей бородой, напротив, всем видом своим выражал достоинство. Его проницательный, но острый взгляд также выказывал спокойствие и уверенность. Казалось, в их положении кроется ошибка и им следовало бы поменяться местами. Однако, никакой ошибки не было.
– Ну что ж,