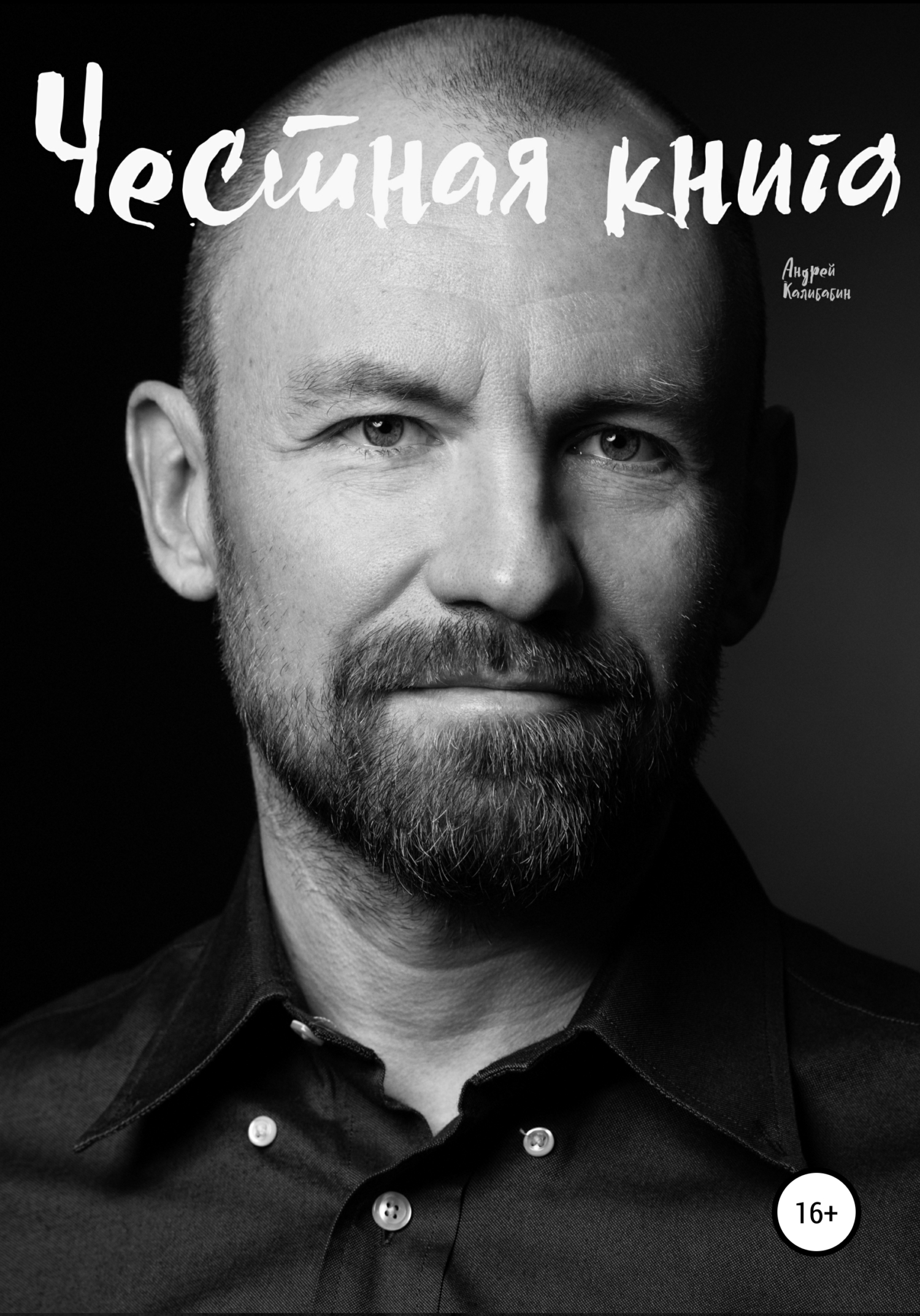и сам, и жена, и дети больные уже...
— А разве здоровые?
— Может, и больные, я не спорю, но нигде ж не сказано, что больной не должен быть в колхозе, для того, у кого здоровье слабое, будет более легкая работа... Но об этом потом. Вот заявление тетки Урбан. Она пишет:
«Прошу исключить из колхоза, как я все время читаю газетки, а в них написано, что в колхозе религия не удержится, и это уже по нашей церкви видно, а я с этим не согласна, я хочу быть свободной и верить богу, и молиться».
Как будто в колхозе кто-то не позволял бы тетке молиться. А, например, Адам Станкевич совсем о другом пишет: «Прошу исключить меня из членов колхоза, так как я не имею понятия о колхозной жизни и не хочу быть под неволей, а желаю пожить на свободе, как за нее шесть лет боролся, а семья моя все терпела, а теперь дожилась свободы, а нам не хотят дать ни земли, ни коров — ничего».
— Станкевичу кто-то сказал, что в колхозе у него все отнимут.
— Никто мне не говорил...
— Если никто не говорил, так почему же ты, дядька, так думаешь?
Крестьянин не ответил. Панас продолжал:
— Интересное заявление и Шаболтаса: «Прошу исключить из колхоза, потому я не по своей воле пошел, а меня загнали. Когда я спрашивал, что будет, если не пойду, мне Камека сказал, что кто не пойдет, тот, как плетень, будет сброшен с дороги, а теперь, как газетка пишет, что нет насилия, вот я и выписываюсь».
— Этот человек правду написал, что не хочет, а ему не объяснили хорошенько, не ответили на все его вопросы, и этим самым, действительно, могли, как он пишет, загнать в колхоз.
— Так и загнали ж...
— Никто вас не гнал. В колхозе не нужны те, кого загоняют, а те, кто сам идет, а мы не загоняли, а разъясняли вам, что в колхозе жить лучше будет...
— А церковь зачем отнимали? — выкрикнула женщина.
— Сами ж вы постановили забрать ее.
— Са-а-ми?
Потом поднялась с лавки женщина и, махая руками, заговорила:
— Ну, какая ж это жизнь? Отдай все свое, а как же сам тогда? Никто нигде не видел такой жизни, так как же он, который пойдет на такое...
Панас хочет перевести собрание в спокойное русло.
— Давайте по одному говорить будем, а не кричать. Вот, может, дядька что скажет, а потом другой...
— Я решил дома ничего не говорить и не буду,— ответил крестьянин.
— Так, может, вопросы будут? — вставил Камека.
— Моя голова уже не варит, какие я вам вопросы дам?
— Как сказали нам, что сметаны не дадут, вот и напугало нас это.
— А мы все больные, слабые. Сами еще своей семьей кое-как живем, а там кто нам поможет.
Не говорят — кричат. Каждому хочется сказать только свое, и, чтобы его услышали, он кричит, заглушая других. На собрании давно уже никто не сидит. Все поднялись с мест, все столпились впереди, ближе к столу, чтобы самим было слышно и чтобы услышали, когда скажешь сам. Панас понимает, что надо дать высказаться всем желающим, и он спокойно слушает, кое-что записывает на бумажку. В душе у него нарастает желание сказать им, и как можно быстрее о том, что говорят они, только по-иному, так, чтобы достать до сердца и чтобы они сами сказали всю правду, обо всем.
Когда умолкли все крики и на какую-то минуту в хате стало тихо, Панас заговорил.
— Не мы вам плохого желаем, а враги ваши и наши. Это они вас запугали, это дружки их вас научили, они вас отлучают от вашей лучшей доли. Я верю, что колхоз в Терешкином Броду будет жить и будет образцом того, как строить лучшую жизнь. Этот колхоз создадут те, кто не побоится вражеской лжи, кто не послушается кулачества. Не говорите, что вас не пугали! Я не поверю этому! Но мы хотим, чтобы вы нам сказали правду, открытую правду обо всем...
Возле печи стояла Галина и Палашка. Палашка смотрит на Панаса и волнуется, порывается что-то сказать и не решается. Галина шепчет ей что-то, толкает ее локтем под бок, чтоб говорила. И когда Панас произнес последнее слово, Палашка махнула рукой, словно что-то сбросила с себя, и пошла к столу, расталкивая женщин.
— Пугали нас! — крикнула она,— всех пугали, а мы верим вам, товарищ, да боимся...
И как только заговорила Палашка, по сторонам закричали, зашумели, застучали ногами, чтобы помешать ей. Кто-то в углу завыл по-волчьи, кто-то засвистел. Панас наблюдал за собранием. Он понимал, что слова Палашки будут решающими, и голосом, которым еще никогда не говорил здесь, в деревне, он крикнул:
— Правды испугались? Чтоб заглушить ее, по-волчьи воете? Этим не возьмете! За этим не пойдет собрание!
И собрание сразу притихло. В хате наступило полное молчание. Тогда опять заговорила Палашка:
— Я правду открытую, о которой просил ты, товарищ, скажу. Они нас коммуной стращали, что все там босые, что вши там по стенам ползают, что все голодные. Мы верили им. А поехала я туда с делегацией, посмотрела, так ли оно? Нет, не так! Хозяйство там, никогда никто у нас не жил так. Чистота там, дети в чулочках, в валеночках, все накормленные, досмотренные. А как сказала я по приезде об этом на улице при Мышкине, так он толкнул меня под бок и давай,— так твою и растак, не говори, приказывает, правды, а говори, что видела, как вши по стенам ползают, что видела, как с мякиной хлеб едят, что ничего нет у них... А не будешь так говорить, так пропустим тебя, говорит, в газетку... А я хочу быть в колхозе, я ночи плакала через их из-за этого.
Пока говорила Палашка, к столу подошла Галина, отбросила платок со лба.
— И я хочу сказать! Хочу и я об этом. Палашка правильно говорит! Они ходят, пугают, угрожают! И хоть муж мой и отец выписались, а я хочу в колхоз и другим говорю — в колхозе наше бабское счастье!
Тогда из угла по собранию хлестнули грязные обидные слова в адрес Галины.
— Шлюха ты! Мужниного мало, колхозного захотела!...
На мгновение замолчала Галина, подняла ко лбу руку, подержала ее так. Обида и слезы, подкатившие под горло, не давали говорить, но