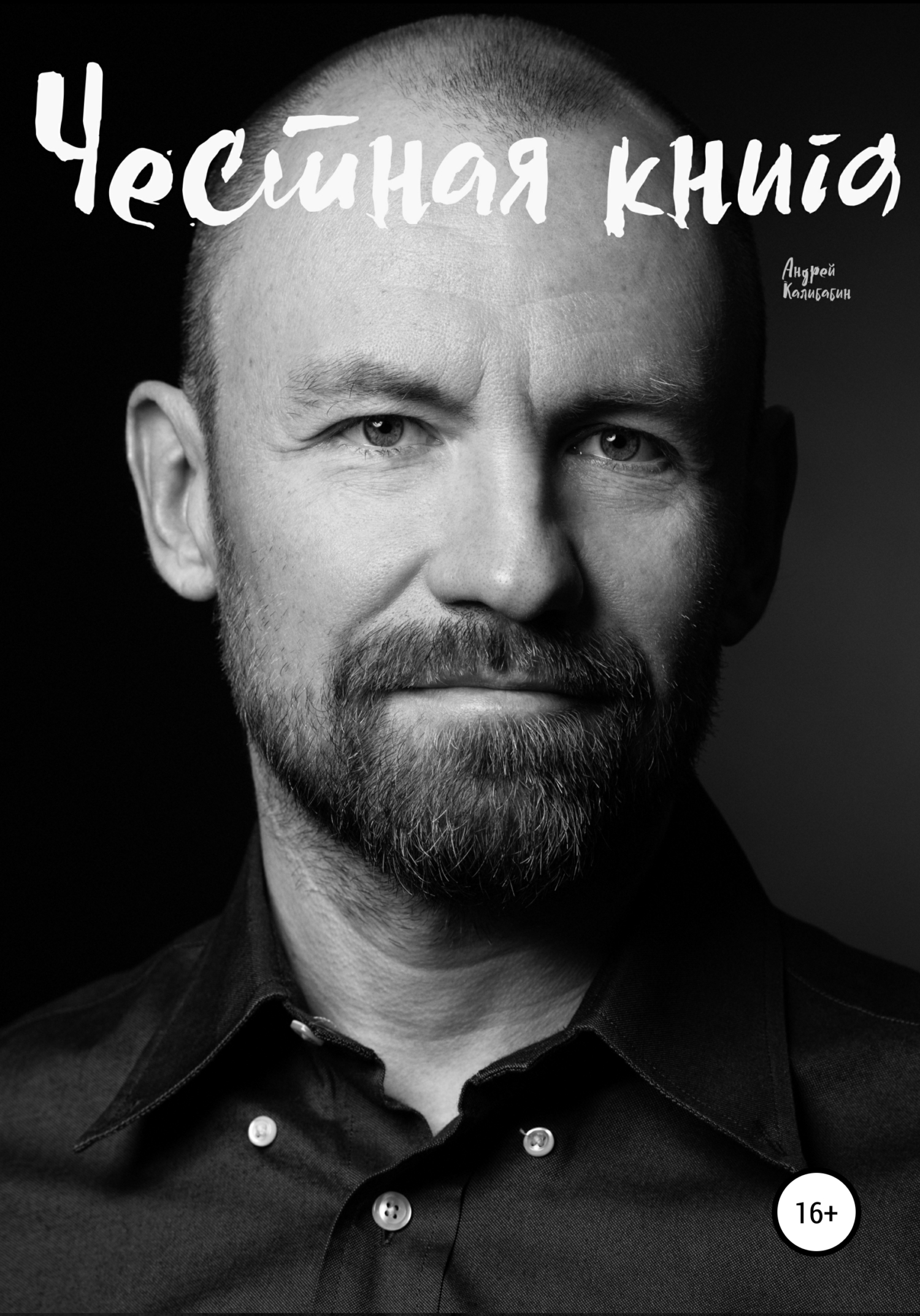лавок и хотели расходиться.
— Надо, хлопцы, возле церкви посмотреть,— предложил Клемс,— кто там ночью балует, потому что бабы вон пустили по селу — конец свету, дескать, пришел. А мы ведь не дети, сказки нам нечего рассказывать. Вот посмотрим и на собрании скажем все об этом...
Мужчины молчали, что-то утаивая, и неохотно соглашались пойти к церкви.
— А чего ходить,— высказал мнение один из мужчин.— Может, ветер подул, вот колокол и брякнул несколько раз.
— Где ж оно, ветер,— заперечил другой,— когда звонило, как на похоронах, и долго. Ветер так не звонит, Я, это, стоял, пока не перестало...
— Кто же мог нарочито пойти звонить, что ты, сосед?
— Я не говорю, что кто-то пошел, но не мог так ветер...
Толпой обошли вокруг церковной ограды, посмотрели, есть ли где следы человеческие. На непросохшей земле весенней следы были бы видны отчетливо, и если бы кто-нибудь перелезал ограду, следы остались бы по обе стороны ее. Но следов никаких не нашли. Осмотрели внимательно землю у ворот и тропку, ведущую к церковному крыльцу. Не было следов и здесь.
Удивленные, молчаливые, мужчины стояли у церкви, смотрели на звонницу. Со звонницы свисала, покачиваясь, перевязанная узлами, веревка. С земли руками ее достать нельзя. Значит, надо было лезть на звонницу, но церковная дверь была заперта на тяжелый засов. На двери висел громадный тяжелый замок, ключ от которого хранился у сторожа. Не было следов и у крыльца.
Мужчины от церкви ушли молчаливыми и сразу разошлись по хатам. Пошел молчаливый и злой Клемс. Пошел, думая о том, что случилось. Он не знал еще, что надумали мужчины, но догадывался, что они что-то утаивают от него, что-то не хотят ему говорить.
А по деревне, вслед за слухом о колоколах, пошел другой о том, что искали мужчины следов у церкви и никаких следов не нашли. И тогда сразу и колокола, и нищий с евангелием, и бумажка, наклеенная на днях у колодца, и колхозная жизнь смешались в предствавлении многих в одно, а с этого началось самое главное, что случилось в этот день в Терешкином Броду.
Коров доить вышло всего три женщины. Остальные явились без доенок. А за ними пришли к коровникам почти все жители деревни. Когда ворота коровников раскрылись, женщины толпой бросились к загородкам, где стояли их коровы, торопливо разметали жерди, и с бранью, с криком выгнали коров на двор. Там к женщинам присоединились мужчины.
Люди гонялись за перепуганными коровами, били их, удивленных, палками и гнали на улицу. А с улицы бежали к коровникам те, кто опоздал, кто узнал о случившемся позже. Коровы, привыкшие к стаду, бежали в сторону ручья, где их поили, и когда им преграждали путь, они крутили головами и опять удирали в коровники на свои места. Усталые женщины бежали за ними со слезами, спотыкались, падали, проклиная и коров, и того, кто надумал колхоз, и опять выгоняли коров на двор.
Хлева опустели и стояли молчаливые с широко раскрытыми воротами. Ждали. Казалось, скоро опять возвратятся коровы, и настывшие стены согреются теплом их глубокого дыхания.
Разлученные коровы неохотно шли, мыча, по улице и дворам.
Испуганный случившимся, Клемс сначала уговаривал мужчин загнать коров обратно, потом начал угрожать им законом, карающим самоуправство. Мужчины не слушали, бранились и расходились по хатам. Тогда Клемс решил идти в сельсовет к Камеке.
* * *
Уже смеркалось, но сходка собиралась медленно.
Перед сходкой Панас позвал в сторону от крыльца Галину и долго с ней беседовал, стоя посреди двора. Ему хотелось кое-что подробнее узнать еще до собрания. Хотелось ему сделать это еще и по той причине, что крестьяне, приходившие на собрание, держали себя так, словно в деревне ничего особенного не случилось, и в то же время каждый из них почему-то боялся встречи и разговора с Панасом, и всячески уклонялся от этого. Панас был удивлен.
После беседы с Галиной он, может быть, в сотый раз обдумывал смысл заявлений об исключении из колхозов. Все эти заявления, написанные на разных клочках бумаги и разными руками, говорили о том, что авторы их чего-то боятся и чего-то не знают. Потому в хате, перед началом сходки, Панас еще раз пересмотрел заявления и отложил наиболее характерные из них отдельно.
Несмотря на позднее время, сходка все еще не открывалась. Многих в хате не было. А те, что пришли раньше, не желали ждать и требовали начинать собрание.
Панас понимал, что сходка будет бурной и что переносить ее ни в коем случае нельзя. Потому он сразу, как только в хате наступила относительная тишина, посоветовал Клемсу объявить собрание открытым и сам взял слово.
— Сегодня нам бы с вами,— начал он,— решать уже хозяйственные вопросы, потому что скоро весна, но приходится заниматься другим, причинами, из-за которых распался колхоз.
Несколько голосов перебило его и предложило:
— Хватит уже говорить про колхозы, товарищи, может, о чем-нибудь новеньком поговорим?
— О новеньком в другой раз,— ответил Панас,— а сегодня давайте со старым разберемся.
— Давай и так,— согласились в зале.
Панас продолжал.
— Некоторым кажется, что вот не пожелали они быть в колхозе, подали заявления об исключении, и все, а оно не так...
— А как же, как? — закричали из зала.
— Не так,— продолжал Панас,— не поверю я этому. Чья-то хитрая очень рука водила вашими руками, когда вы писали свои заявления.
— Свои головы имеем, никто нам не писал!..
— Может, и не писал, так показывал, диктовал и, может, не так, чтобы прийти, стать за плечами и говорить, что писать. Нет. Делали иначе. Вас просто пугали жизнью колхозной, слухи о ней распускали разные, и вы поверили...
— А как же не поверить? Разве неправда?
— Что разве неправда? — спросил Панас.
— А то, что написали в заявлениях.
— Заявления свидетельствуют о том, что многого вы о жизни колхозной не знаете, а еще больше о том, что вас напугали. Я вот перечитаю некоторые заявления.
Вот хотя бы это:
«Так как я еще жизни колхозной не знаю, так прошу и мою семью, жену и детей, из колхоза исключить, как несогласных на колхозную жизнь. Поживем, может, тогда и вступим».
Это Сватовский пишет, таких заявлений много.
Вот другое:
«Как я и моя жена, и дети больные, и не работники в колхозе, так просим исключить».
— Это Обухович... На себя он работал, а как в колхоз,