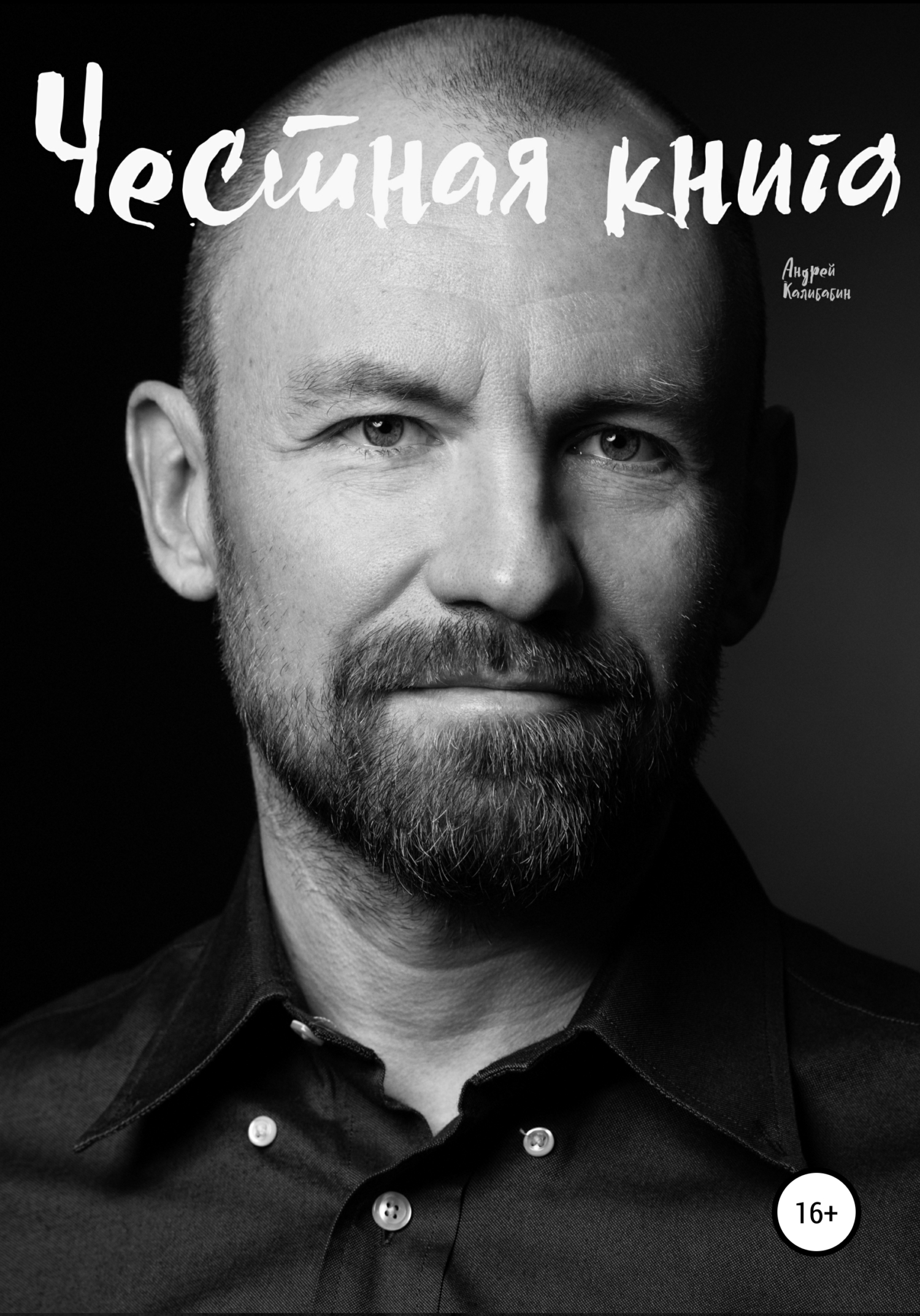и больше не говорите, а если приставать будут, скажете, что боитесь правду говорить, чтоб не посчитали плохим человеком.
Незнакомец: — Я это знаю, ты про это не говори. Я переночую и еще завтра утром пройдусь по хатам, просить буду. А вы утром приходите новости узнать и старайтесь, чтоб никто не пришел на собрание. Это если не выйдет дело с заявлениями.
Горбуль: — Я думаю, что выйдет. Уже некоторые говорили об этом.
Мышкин: — Обязательно говорите, что выселять будут, что выселять будут всех, кто хоть немножко хозяин.
Горбуль: — Евангелие батюшка советовал читать про себя, а им лишь тогда, когда попросят. А чтоб заинтересовались, читать так, чтоб не слышали и не разбирали слов, тихонько, тогда обязательно попросят.
Мышкин: — Как пойдете, я минут через десять буду звонить, словно на похоронах. Это как раз возле церкви. А вы, как услышите звон, сразу стучите в окно, будите, чтоб услышали. Спросите, почему ночыо в церкви звонят...
Незнакомец: — Не догадаются, что в рельс это?
Мышкин: — Не бойтесь. Спросонья, да ночью, испугаются. А наши колокола как раз как рельс звонят.
Незнакомец: — Тогда хорошо. Ты только не звони долго, чтобы не проверили, а то побегут к церкви.
Горбуль: — Надо сказать, где будете, что перед войной колокола на звонницах сами, как на похоронах, звонили...
Незнакомец: — Это хорошо, удачно сказано.
Мышкин: — К церкви ночью не побегут, а вот утром надо намекнуть им, чтобы шли проверить, не звонил ли кто нарочно, нет ли свежих следов. Они пойдут, а следов не будет.
Незнакомец: — И это очень удачно. Пора идти.
Мышкин: — Пора. Как поступать — вы сами знаете. О бумажке только чтобы ни-ни-ни! Пускай они вам о ней расскажут.
Незнакомец: — Не бойтесь. Сделаю, что надо. После завтрака или где-то до полудня, я должен исчезнуть, так вы уж не прозевайте момента. Обо мне вы в деревне только узнаете, что был, что говорил, каков сам... идем...
Горбуль с незнакомым пошли через поле в деревню. Мышкин постоял немного на крыльце и вернулся в хату.
Спустя десять минут возле одной из хат стоял высокий человек в лохмотьях. По обе стороны у него висели, скрещенные на груди и плечах веревки, мешки. Он чего-то ждал. Вслушивался в тишину ночи и не двигался. Прошло еще две минуты. В поле за деревней ударил три раза подряд колокол. Тогда человек торопливо подошел к окну, крепко постучал в раму.
В хате к стеклу прилипло на мгновение чье-то лицо, и мужской голос спросил, кто стучится и что ему надо. Человек ответил, что он нищий и просится ночевать. Объяснил еще, что опоздал немного, потому что очень устал. Ни о чем больше не спрашивая, хозяин открыл дверь в сени и стал на пороге, чтобы рассмотреть нищего. Тот стоял перед крыльцом тонкий, высокий, с полупустыми мешками и дрожал от холода. Крестьянин хотел было шагнуть с порога и впустить в сени нищего, как услышал похоронный звон из церкви. Он встревоженно прислушался и тихим испуганным голосом обратился к нищему:
— Как будто в церкви звонят, как на похоронах...
— Может, кто умер у вас? — спросил нищий.
— Никто не умер, да и церковь закрыта. Не служат уже в ней...
Нищий снял шапку и начал торопливо креститься.
— Перед войной сами колокола похороны звонили,— сказал он,— не дай того, боже, опять, смилуйся, боже...
Колокол еще несколько раз позвонил и умолк. Наступила тишина. Нищий от холода и от перепуга, что ночью звонят колокола, задрожал еще пуще, застучал, словно от холода, зубами. Его испуг передался сразу хозяину. Глядя на нищего, он вздрогнул и перекрестился.
— Идем, братец, в хату, ты замерз очень, дрожишь.
— Замерз и напугался, когда ты сказал, что церковь закрыта, а в ней ночью звонят...
Тяжело вздыхая, все еще дрожа и стуча зубами, вошел нищий в сени и переступил порог небольшой освещенной хаты. С лавки и с полатей на него смотрели, удивленные его поздним появлением, дети. Крестьянин запер сени и торопливо вошел в хату.
В хате долго горела лампа. Еще долго не спали.
* * *
Соседка наклопилась, подняла на уровень лица руку и незаметно, кивая рукой, подозвала к колодцу жену Петра. У колодца стояли толпой женщины и, наклонив головы, о чем-то беседовали.
— Поди, послушай, что бают вон,— зашептала соседка Петрихе,— страх какой...
Петриха остановилась. А женщина, что была в центре, поправила съехавший на глаза платок, взяла за рукав кожуха Петриху и, привлекая ее ближе, заговорила:
— Сам он высокий, худой, стоит в пороге, крестится и просит во имя Христа ломтик хлеба, а потом молится по евангелии. Не молитвами, как мы, а по евангелии... Зашла, это, ко мне она,— женщина показала на соседку,— я и спрашиваю, не на погорелое ли он собирает, потому что и не слепой, и не калека, и не старый еще человек. Так он, голубки мои, пусть вот она скажет,— женщина опять показала на соседку, а та закачала в знак согласия головой,— закивал, что нет, вздохнул этак тяжело и говорит, что он из коммуны, что в соседнем районе. Было их аж тридцать две семьи в коммуне, шесть лет жили коммуной да горевали, бились, как рыба об лед, а теперь все пошли по миру.
— А у нас он ночевал,— сказала соседка.— Ужинали мы, как слышим, кто-то стучит в окно. Поглядел Сымон, человек стоит под окном, нищий. Он, это, и говорит. Я говорю пусти, пусть переночует, мы от этого не обеднеем, или лавку он откусит, что переспит. Вышел Сымон на крыльцо, а человек стоит и дрожит, аж зубы у него стучат. И слышит Сымон, что в церкви колокола звонят, как на похоронах. А нищий крестится и спрашивает, может, кто умер, говорит, или что? Долго колокола звонили, Сымон перепугался, аж побелел, как пришел в хату...
Как звонили колокола, слышали многие. Слышал и Клемс. И утром после завтрака он пошел к Ашурке Петру, чтобы посоветоваться, что делать. Когда Клемс сказал, что надо осмотреть церковь, кто там лазал ночью, Петриха попыталась было рассказать ему о нищем, но почему-то сдержалась. Петро надел армяк и пошел с Клемсом по улице, чтобы позвать мужчин и осмотреть церковь.
В хате, куда зашли Клемс с Ашуркой, сидели у стола мужчины и о чем-то советовались. Как только Клемс вошел, они смолкли, встали с