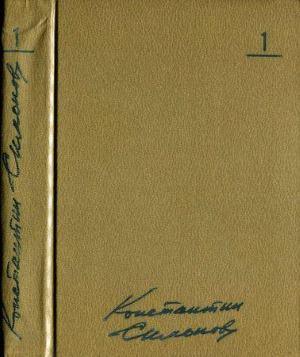с мужественным их преодолением. Именно этим эмоциональным тоном и привлекала читателей лирика Симонова, в этом заключалась основа ее успеха.
Особенность подхода Симонова к изображению характера человека таила в себе скрытые опасности. «Упрям, драчлив и смел» был Сергей Луконин («Парень из нашего города»), «отродясь заводилой» был Сафонов («Русские люди»), «хорошим парнем», со «взлетами и падениями», с мечтами «от памятника до пожарника» помнил Артемьева друг детских лет Климович («Товарищи по оружию»), и даже Левашов, один из героев поздних повестей Симонова («Левашов») нес на себе печать этой дерзкой удали. Облик героев менялся: Левашов был уже не похож на Сергея Луконина, и все-таки часто казалось, что это один и тот же характер — сильный, мужественный герой, душевный мир которого и сегодня волнует Симонова.
Но послевоенные романы и повести («Живые и мертвые», повести «Из записок Лопатина», роман «Солдатами не рождаются») убеждают в том, что в художественном мышлении автора произошли существенные сдвиги. Если раньше основной формой психологизма в его произведениях были контраст и альтернатива, то переживания послевоенных лет сильно углубили, усложнили психологическую структуру сознания симоновского анализа в творчестве писателя.
Уже готовя к постановке написанную в конце войны пьесу «Под каштанами Праги», Симонов настаивал на том, чтобы актеры не играли Машу только как «простую советскую девушку» [11], но оттеняли бы обаяние ее человечности. Обращаясь в эти же годы к актерам, которые должны были ставить «Русский вопрос», Симонов предлагал им не изображать «американцев во что бы то ни стало» [12], а представить себе ту обстановку, в которой живут его герои, их отношения, круг их мыслей. Созданные писателем характеры и здесь, казалось бы, очерчены эскизно, контурно. Но уже с большей силой звучит то, что определяет направление внимания Симонова и сегодня, — поиски художественных решений, в которых публицистическое изображение характеров более органично сливалось бы с их психологической индивидуализацией. В том же «Русском вопросе» рядом с Гарри Смитом, очерченным рельефно и графически четко, возникает характер более сложный — Боб Мэрфи, в котором душевная неустроенность, смятение чувств и тихое отчаяние естественнее, чем у Гарри Смита, вытекают из общей социальной безнадежности. Четкая графичность рисунка, если не исчезает, то становится незаметней, как бы отступая на второй план.
Лирическая атмосфера произведения играет все большую роль, и тональность ее меняется с изменением «шкалы чувств» главного героя: она романтична в «Парне из нашего города», гневна и наступательна в «Русском вопросе», мужественна и сдержанна в повести «Дни и ночи», горестна и сурова в романе «Живые и мертвые». Вышедшая в годы войны, тысячи раз сыгранная фронтовыми театрами и кружками, героическая и призывающая к мщению пьеса «Русские люди» была в то же время удивительно лирична. О ее «особой поэтичности» писал Вл. И. Немирович-Данченко и она создается не только настроением Вали, вспоминающей о березках которые росли у них в Ново-Николаевке и были для нее олицетворением Родины, и не только «несвоевременными» мечтами Шуры о большой любви, а главным образом тональностью, связанной с центральной фигурой пьесы — командиром Сафоновым. Внешняя огрубленность, боязнь показаться сентиментальным, личина суровости, которая, очевидно, считается и героем, и автором неотъемлемым атрибутом мужчины-солдата, контрастирует с душевной мягкостью простого парня, возглавившего борьбу попавших в окружение людей. «Ну, что ты хочешь, колокольчик ты мой степной? Чего ты хочешь? Что сделать мне для тебя?» — говорит он Вале в черную ночь, в момент переправы ее через Лиман к немцам. Любовь его немногословна, но во всей пьесе ощутима романтика скрытых чувств, создающая ее поэтический подтекст.
Воздействие лирической атмосферы на читателя усиливается тем, что в произведениях Константина Симонова мы сталкиваемся с фактом «сращенности» — иногда полного отождествления — писателя и его лирического героя.
Писатель как будто сознательно усиливает ощущение этой «сращенности» путем вмешательства в художественную ткань произведения, введением авторских оценок и размышлений. Может быть, именно поэтому Симонов так часто прибегает к форме дневника — репортажа: «лирическим дневником» назван цикл «С тобой и без тебя», «монгольским» дневником — цикл «Соседи по юрте» («Стихи тридцать девятого года»). Поэтическим военным дневником являются стихи, самим автором выделенные в раздел «Годы войны»; как зарубежный дневник воспринимается книга «Друзья и враги», и даже далекий, казалось бы, от дневника роман «Живые и мертвые» несет в себе элементы лирического репортажа.
«Сращенность» автора и лирического героя, от которой автор отступает только в романах 50-60-х годов, долгое время привносила в произведения Симонова элементы очеркового психологизма. Это проявилось уже в нервом прозаическом произведении Симонова — рассказе «Третий адъютант», отчетливо обнаруживающем свое родство с очерком. Характер комиссара очерчен бегло, и только в одном плане: «Комиссар был твердо убежден, что смелых убивают реже, чем трусов». Форма повествования — описание — сохраняется и тогда, когда автор рассказывает о герое, и тогда, когда дает ему слово: «Утром ему подали сводку вчерашних потерь. Читая ее, он вспомнил хирурга. Конечно, сказать этому старому, опытному врачу, что он плохо работает, было с его стороны бестактностью, но ничего, ничего, пусть думает, может, рассердится и придумает что-нибудь хорошее. Он не сожалел о сказанном. Самое печальное было то, что погиб адъютант. Впрочем, долго вспоминать об этом он себе не позволил. Иначе эти месяцы войны слишком о многих пришлось бы горевать» [13]. Сопоставление авторской речи и монолога комиссара показывает, что структура фразы в том и другом случае — одинакова: короткие предложения, немногословные реплики, ровная интонация. Речь комиссара и его незримого спутника — автора — переходят одна в другую без какой-либо осязаемой границы между ними. За их словами не ощущается разности интеллекта, разности темперамента.
В 1946 г., вспоминая о творческой истории рассказа «Восьмое ранение», писатель приоткрывает завесу над процессом превращения очерка в рассказ: «Я, как водится в таких случаях,— писал он,— переменил фамилии, переставил так, как мне было удобно, некоторые события, а главное, конечно, на свою ответственность попробовал представить себе, что думал и чувствовал Корниенко, совершая все те поступки, которые он действительно совершил в жизни» [14]. В этом высказывании очерчена действительная направленность внимания Симонова: домысливание распространяется на то, что думает герой, но не на то, как он думает. Та индивидуальность мышления, которая присуща каждому человеку и которая делает его непохожим на других,— опущена писателем.
Это невнимание Симонова к «самораскрытию» героев нередко лишало их живой плоти, лишало конфликт глубины. Именно этим, очевидно, объясняется то, что фамилии в произведениях Симонова менялись «чаще,