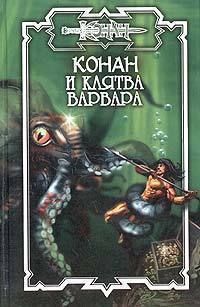Не девочка, но весьма ухоженная дама. Намазала лицо пенкой, смыла, почистила зубы, нанесла крем, и тут сзади её обнял Богдан.
— Солнышко моё, доброе утро!
Она повернулась и закинула руки ему на шею. Они стояли и целовались, старые дураки, а Богдан бормотал свою непередаваемую любовную чепуху. И она верила хрупкой минутной верой, что самая красивая, самая нежная и атласная, самая умная и чудесная.
— Знаешь, что мне подумалось? — он опять принялся целовать её намазанные кремом щёки, шею, плечи.
— Что?
— Ведь это наш с тобой медовый месяц. Именно поэтому у нас в холодильнике столько мёда.
— Мёд не надо хранить в холодильнике, — она запустила руку в его кудри и нащупала чертовский рожок.
— А я и не знал, — он поцеловал её голое плечо. — Я, собственно, хотел сказать, что кроме мёда ничего нет. Я совершенно упустил из виду, что надо купить. Только кофе и молоко.
— Ну и ладно, — согласилась Прасковья. — Меньше жрёшь — меньше жиреешь, — повторила она свою любимую сентенцию. — К тебе, впрочем, это не относится. Но мы поедим по дороге. А лучше — в гостях. Галчонок, это его жена, — выдающаяся кулинарка. Просто от Бога. — Хотела сказать, что знает только двух столь же выдающихся кулинаров: Галчонка и своего мужа, способного приготовить буквально кашу из топора, но вовремя затормозилась. Вместо этого озабоченно произнесла:
— Мне надо начинать тщательно следить за весом. Не больше восьми килограммов общего привеса за всё время.
— Господи, как всё это сказочно: следить за весом, восемь килограммов. Мы словно снова молодые…
Она погладила его лицо, поцеловала глаза.
— Ладно, иду делать кофе. А ты, если собираешься на пробежку — беги сейчас, пока народу нет.
Богдан убежал, а она пошла на кухню и вынула всё, что нашла. Готовить-то и впрямь нечего.
Вытащила дорожную сумку и стала соображать, что взять. Положила косметичку, трусы и свитер. Натянула тёплые брюки-шароварчики: они ей идут. Сверху — голубой пуловер с любимым вырезом лодочкой: она часто носила что-то сине-голубое с вырезом лодочкой или уголком. Голубой джемпер был на ней и той памятной зимой, когда познакомилась с Богданом. Но тот был из какой-то синтетической дряни, а этот — кашемировый. Надела и загадала: если он отметит сходство с тем, давним — значит, всё у них будет хорошо. Загадала и тут же устыдилась: «Глупеешь ты, мать».
Богдан вернулся порозовевшим, хотя и чуть задыхаясь, чего в прежней жизни вроде не было.
— Поросёночек мой розовый, восемь кил привеса, да ты совершенная студентка! — воскликнул на пороге.
— Почему? — спросила Прасковья, проверяя.
— А у тебя тогда было что-то похожее. Помнишь?
Прасковья прижалась к его груди.
— Ты бегай как-то поаккуратнее, Чёртушка — ладно?
Богдан рассмеялся:
— Ну вот! Выходит, мы всё-таки не студенты. Всё время уговариваем друг друга быть осторожными, поберечься, остеречься и прочий пенсионерский вздор. А мне вдруг захотелось — всего! Попрыгать с парашютом, пострелять, понырять. Ведь я во всём этом был не из последних.
— Ты с врачом советовался, дайвер-парашютист? — Прасковья встала на цыпочки и потрогала его рожок.
— Он мне уже сказал: «Богдан Борисович, Вам показана ЛФК и понемногу можно подключать плавание. И без эксцессов», — Богдан произнёс это скрипучим омерзительно-поучительным тоном. — А мне хочется эксцессов — понимаешь?
— Каких же эксцессов тебе хочется, мой хороший? — Прасковья снова потрогала его рожок.
— Разнообразнейших: научных, технических, спортивных, сексуальных, чёрт побери! Ведь у меня молодая жена, медовый месяц, я молодой отец, я придумал потрясающую вещь… Правда-правда! Абсолютно потрясающую основы. — Он схватил Прасковью и закружил её по прихожей. Вдруг резко остановился, выпустил её из рук и проговорил совсем другим, сломанным, голосом:
— Я, действительно, старый комедиант, Маша права. Нам надо собираться.
Ей хотелось спросить, что с ним, но она боялась. Смотрела на него искоса и боялась. И любила его, невероятно любила. Гораздо больше, чем прежде, больше, чем всех на свете вместе взятых. Дети, родители — всё это вздор и мелочь по сравнению с ним.
Богдан пошёл в ванную, а она — варить кофе.
* * *
Выехали, когда ещё не начинало светать. По дороге, уже за городом, зашли в большой торговый центр — купить Богдану тёплые ботинки: у него не было. Он перемерил несколько пар, но ни одна ему не понравилась.
— А вот эти почему тебе не нравятся? — робко поинтересовалась Прасковья. — Они вроде удобные.
— Да-да, очень удобные. Боты «прощай, молодость» — вот их-то мы и возьмём.
— Богдан, это совсем не обязательно, не хочешь — не бери, — проговорила Прасковья миролюбиво.
— Нет-нет, мы их возьмём, ты совершенно права. Это именно то, что мне нужно. — Он быстро оплатил, и они ушли.
Когда подошли к машине, он с раздражением кинул пакет в багажник.
Прасковья понимала, что он унижен: своей физической немощью, вернее, своим представлением о собственной немощи. Многие в его годы не только не лучше, но и похуже бывают, но он-то помнит, как это было пятнадцать лет назад, когда пробежать десять километров, а потом проплыть ещё пять — было пустяком. Потом он наверняка часто плохо себя чувствует, у него что-то болит, он тайком глотает таблетки, позавчера в мусоре заметила шприц. Она не наблюдательна, но поневоле что-то замечает, хоть и мало бывает дома. Из гордости он никогда не говорит о дурном своём самочувствии, но она-то понимает. И ничего не может сделать. Он даже говорить о своём здоровье не разрешает. Хорошо хоть находится под врачебным наблюдением. Он как-то обмолвился, что чертями занимается специальное подразделение военных медиков. Надо полагать, они их изучают. Ну и лечат заодно.
Потом он унижен своим неопределённым положением по отношении к ней. Этим идиотским австралийским паспортом. Тем, что ему запрещено работать на военных и политику, а только в бизнесе, в рекламе, вот он и работает на какие-то коммерческие компании, кажется, китайские. Конечно, сегодня нет непроходимой стены между государством и бизнесом, но ему-то хочется иного. Да, его нынешние работодатели, похоже, хорошо платят, деньги у него есть, но… Не об этом мечталось в юности.
— Богдан, — проговорила она деловито. — Ты просил меня рассказать о судах чести. Если намерен слушать — могу рассказать.
— Разумеется, расскажи, мне это очень интересно, — ответил он с преувеличенной готовностью, за которой скрывалась неловкость за своё утреннее поведение. — Только позволь мне включить диктофон. Для меня это важно.
— Ну что ж, включай, — согласилась Прасковья.
— Суды чести — это неотъемлемая часть нашей орденской структуры, которая носит название Союз «Святая Русь», — начала Прасковья. — «Святая Русь» — это своего рода религиозный рыцарский орден, куда входят люди,