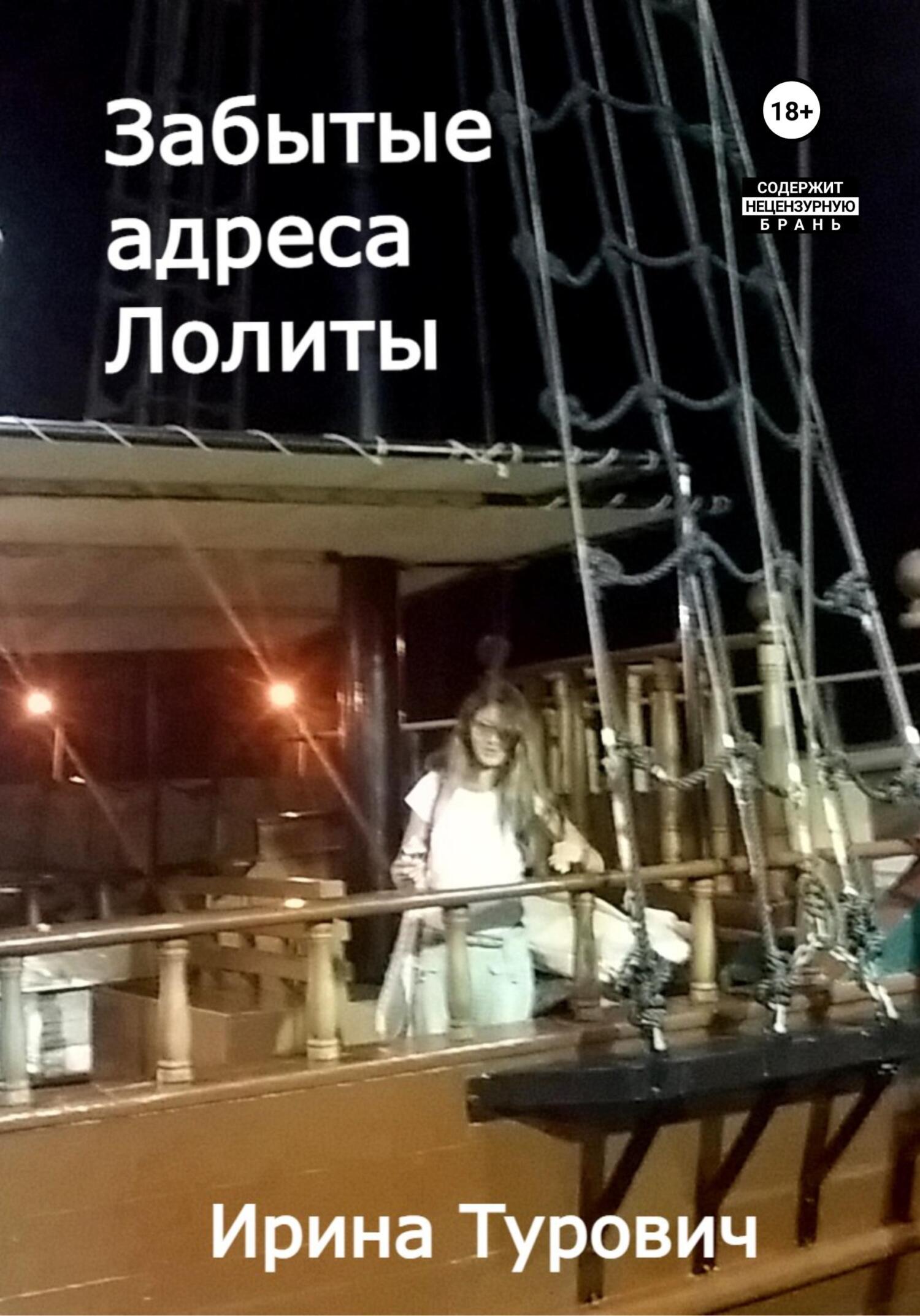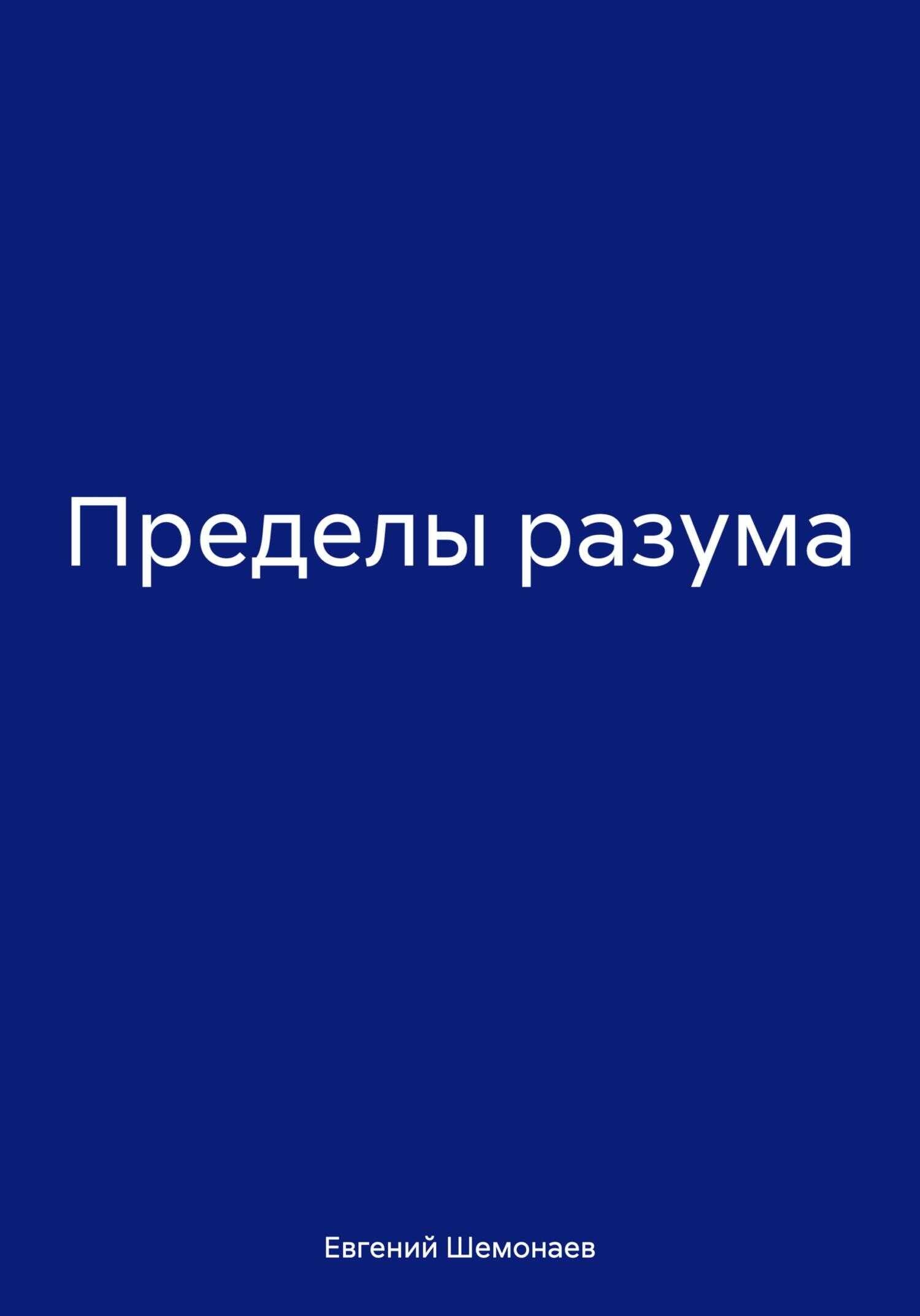занимались любовью очень спокойно, не причиняя друг другу боли, не делая ничего, к чему мы привыкли, неторопливо и очень счастливо. Мы никуда не торопились, мы были дома. Между нами царила сладкая гармония. Когда мы остановились, Сыла открыла коробку конфет и начала есть, а я подумал про лавандовые поля. Иногда мы с отцом катались на лошадях ранним утром, отец учил меня ездить верхом: «Опирайся на стремя серединой ступни, пятки опусти, держись в седле коленями, спину выпрями…» Мы проезжали через лавандовые поля, и ветер с лавандой двигались в гармонии. На самом деле мой отец не очень любил сельское хозяйство, он любил читать книги по истории и ездить верхом. Я как-то сказал ему: «Зачем ты занимаешься этой работой?» — «Традиции, сынок, — ответил он, — традиции, которые формируют и губят нас». С безрассудством человека, не любящего свою работу, он вложил все свое состояние в один-единственный продукт, вопреки предупреждениям матери, и умер. Смерть была проще жизни. Он выглядел так величественно среди пропахших лавандой ветров на своем коне, там он не был похож на того, кто вот-вот умрет. Однажды мы с мадам Хаят смотрели черно-белый документальный фильм о кинозвездах прошлых лет, которых уже нет в живых, в кадре все они были очень веселы, и я невольно сказал: «Смеются…» «Потому что не знают, что они мертвы», — ответила мадам Хаят. Никто ни к кому не прикасался, все мертвые лежат вместе, смерть — клише; спаривание стрекоз — символ любви; спаривание, превращающееся в любовь, — клише; то, что я узнал об этом от мадам Хаят, — случайность; мадам Хаят играла со смертью точно так же, как и с жизнью…
— А ты что думаешь? — спросила Сыла.
— Ничего, — сказал я.
— У тебя бывал плохой секс?
— Не знаю, тебе было плохо?
— Нет, это было красиво. Я бы так это назвала.
Ливень продолжался, но шорох воды исчез, когда мы снова занялись любовью. Усталые, мы мирно заснули под утро. Я погрузился в глубокий сон, а проснулся с ее рукой на моих чреслах. «Не спишь?» — «Нет». — «Ты можешь трахнуть меня в любое время дня?» — «Ага».
Я повернулся к ней.
Светало.
— Утро наступило, — сказала она, — давай не будем больше спать, пойдем завтракать к морю.
Утро началось с сырой, унылой серости, дороги были пусты, мы купили горячую выпечку в первой открывшейся кондитерской, а кофейню нашли у моря. Сонная официантка принесла чай, и мы начали есть наши хрустящие пирожки.
Мы сидели друг напротив друга. Глаза Сылы были затуманены усталостью, лицо истончилось, она была необыкновенно красива, и я смотрел на нее с недоверием, словно впервые видел.
— Ты счастлив? — спросила она.
— Да.
— Когда собираешься решить с учебой?
— Как только отвезу тебя домой. Сегодня же подам заявление.
Она улыбнулась.
— Хорошо.
И нежно погладила мою руку. Когда она коснулась меня, я вновь увидел лавандовые поля.
Я отвез ее домой.
Ложь — клише. Моя ложь — случайность. Всякая ложь имеет цену — очередное клише. Предчувствие, что скоро я заплачу за ложь высокую цену, — случайность.
Бог также порой плохо играет свою роль, чтобы усилить впечатление.
Я чувствовал себя измотанным и вернулся в постель. Вечером на телевидении была съемка.
XI
Она была похожа только на себя и больше ни на кого. Я не мог предугадать, что и когда она сделает. Я чувствовал, что этот день настанет, но все же был застигнут врасплох. Я даже не понял, что грядет. Мадам Хаят приготовила замечательную еду. Убранство стола было необыкновенным, напоминая картины «Тайной вечери». Янтарный свет заполнил весь зал, в вазах стояла мимоза. Ее золотисто-рыжие волосы сияли. «Мы с тобой должны быть дикими лошадьми на польских равнинах, — сказала она во время трапезы, — молодой жеребец и старая кобыла вместе ведут табуны лошадей в Польше. Мы были бы там счастливы…» Мы пили красное вино.
После обеда она надела короткую ночную рубашку из кружева дымчатого цвета и сделала то, чего никогда раньше не делала: танцевала для меня, обнажая во время танца грудь, живот, пах, бедра. Когда я хотел встать с кресла, она улыбнулась и осторожно толкнула меня обратно.
Это была очень длинная, неповторимая ночь. Волшебством, доступным только мадам Хаят, она отбросила реальность, которую я знал, осязал, видел и поднимал, как тюлевую занавеску, и, как всегда, унесла меня с собой в иное царство.
Утром я обнаружил богато сервированный завтрак.
— Я видела тебя с твоей девушкой, — сказала она за завтраком, не глядя на меня, протягивая вилку за ломтиком сыра.
В ту секунду я не до конца понимал, о чем она говорит, лишь почувствовал, что сказанное ею может изменить всю мою жизнь, и спросил:
— Какой девушкой?
— Да с той, что сидела рядом с тобой на съемках, с ней…
— Где видела?
— Ты проехал мимо меня.
Я проехал мимо нее с другой женщиной в ее машине. Первое, что я почувствовал, — стыд, больший, чем ужас. Мне было стыдно за свое эгоистичное корыстолюбие, я мог видеть, как получаю пощечину, но мой страх перед последствиями предательства прикрыл этот стыд.
— А, да, Сыла.
— Ее зовут Сыла?
— Да.
— Вы часто видитесь?
— Иногда… Она тоже изучает литературу.
— Должно быть, у вас много общего.
Я корчился, как животное со сломанной лапой, не зная, что делать, как сказать.
— Она хочет уехать отсюда, скоро отправится в Канаду, — выпалил я, чтобы показать, что это не постоянные отношения.
Ровным, безучастным голосом, который я уже слышал, мадам Хаят произнесла:
— Разве она не предлагала тебе ехать с ней?
— Не предлагала, но сказала, что здесь нет будущего, и спрашивала, зачем я здесь остаюсь… Но это был несерьезный разговор.
Мадам Хаят задумалась на мгновение, затем продолжила тем же голосом:
— Она права, у молодежи здесь нет великого будущего. Надумываешь уехать?
— Не знаю. Уехать не так-то просто, кроме того, у меня учеба. Да и потом без денег как я поеду?
— Деньги не вопрос. Решение есть. Поезжай с той девушкой. Там вы сможете построить лучшую жизнь для себя.
Она не сердилась, не требовала объяснений, она сделала самое ужасное, самое невыносимое — замкнулась и стала вести себя так, будто между нами не было никакой особой связи. Она выкинула меня из своей жизни. И сделала это спокойно, что было куда больнее, чем любой гнев.
— Я не знаю.
— По-моему, знаешь.
Я услышал, как ее голос надломился, это было похоже на обиду. Мы больше не говорили ни о чем другом. Я оделся. Уходя, оставил ключи от