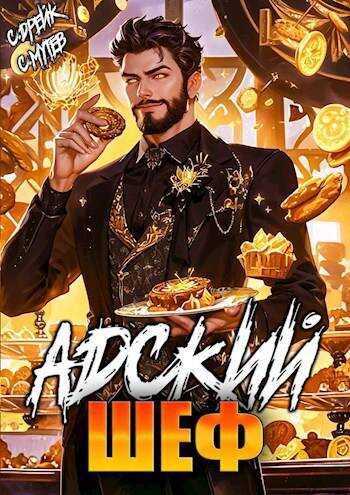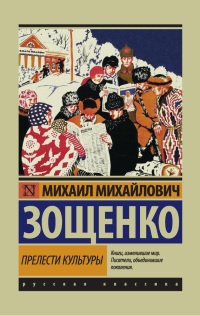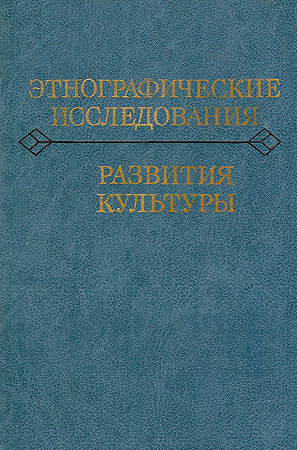вроде Пятницы. Помогал ему ориентироваться в этой стране. Словно слепой вел слепого, – смеется Келлен. – Я ведь и сам не так много знал.
– После работы мы пили чай и беседовали в его красивом кабинете. Мы легко находили общий язык. Некоторые считали Манна холодным, отстраненным, но дело было всего лишь в том, что люди отвлекали его от работы. Когда другие эмигранты приходили в гости – а всех к нему так и тянуло, он же был признанным гением, – то неизменно заводили беседы о Человечестве, Свободе, Демократии. Они ожидали, что великий дух произнесет перед ними небольшую речь. Это его ужасно утомляло. Ему интереснее было послушать о том, как у кого-то спустило шину, или о других мелких неурядицах.
Часто упоминают, что у Томаса Манна было немного близких друзей.
– Это точно, – говорит Келлен. – У него в принципе не было близких друзей. Думаю, у него на самом деле вообще не было друзей. Он всегда держал дистанцию – даже со своим братом Генрихом. Когда им обоим было уже под шестьдесят, они могли сидеть и беседовать, словно два профессора, которых только что представили друг другу. В этом смысле он был похож на Эйнштейна. Глобальные проблемы человечества были для него первостепенными, но когда дело касалось «малого мира», близкого окружения, не стоило ждать от него сердечности и вовлеченности.
В доме на Сан-Ремо-Драйв у Манна был самый красивый кабинет за всю его жизнь – он сам говорил об этом. Здесь Манн написал некоторые из своих самых значительных романов. В то же время тот факт, что писатель более десяти лет прожил в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, никак не отразился в его произведениях. Все эти места не оставили никаких видимых следов в литературных текстах Манна.
За старым баварским столом была, например, написана последняя часть тетралогии «Иосиф и его братья». В обязанности Келлена входила расшифровка рукописи, написанной трудночитаемым почерком в старонемецком стиле, так называемой фрактурой, и чистовая перепечатка «Иосифа-кормильца».
Но, пожалуй, самой важной работой, которая была написана на Сан-Ремо-Драйв, стал роман «Доктор Фаустус» – одно из самых значительных литературных творений ХХ века, аллегорическое повествование о Германии, погрузившейся в коллективное безумие. В центре повествования – фигура Адриана Леверкюна, человека не от мира сего, композитора-сифилитика, который заключает сделку с дьяволом и сочиняет музыку в духе додекафонной техники Шёнберга.
4
Во время работы над «Доктором Фаустусом» Манн столкнулся с трудностями, особенно в части музыкальной теории. Правда, поблизости жили два блестящих авторитета в данной области – философ Теодор В. Адорно, «почти наш сосед», и великий Арнольд Шёнберг собственной персоной, который преподавал в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и часто играл в теннис со своим соседом, Джорджем Гершвином. Шёнберг жил в красивом доме в испанском стиле на Норт-Рокингэм-авеню, куда Манн мог легко дойти пешком за десять минут. Актриса Ширли Темпл жила в доме на противоположной стороне улицы, и, согласно легенде, всякий раз, когда мимо проезжал туристический автобус и экскурсовод указывал на дом Темпл, Шёнберг злился, потому что на его дом никто не обращал внимания.
Сегодня в доме на Норт-Рокингэм-авеню живет сын Шёнберга с семьей. Табличка у входа гласит, что незаконное вторжение повлечет за собой «вооруженный ответ» – в этих местах такое не редкость. Молодая женщина, внучка Шёнберга, говорит, что я могу фотографировать; правда, папы нет дома, но всё в порядке.
«Ужинали у Шёнберга в Брентвуде. Замечательный венский кофе. Много говорили с Ш. о музыке…», – мог Манн написать в своем дневнике. Манн неоднократно консультировался с друзьями по ходу работы над романом. Артур Рубинштейн и Стравинский также сыграли определенную роль в жизни Манна, но именно Адорно, «человек прихотливого, трагически-мудрого и изысканного ума»[69], был в глазах Манна настоящим экспертом в том, что его интересовало.
В свое время в Вене Адорно брал уроки музыки у Альбана Берга, ученика Шёнберга. В Лос-Анджелесе Адорно написал свой знаменитый философский труд о технике додекафонии Шёнберга. Этот труд был опубликован в Германии несколько лет спустя после окончания войны под названием «Философия новой музыки» (1948). «Я нашел артистически-социологическую критику ситуации, очень прогрессивную, тонкую и глубокую, поразительно близкую идее моего произведения, „опусу“, в котором я жил и которому служил»[70] – писал Манн.
Вопрос о том, почему Германия не смогла стать демократической страной, постоянно преследовал Манна. Темные стороны современной реальности проявились при Гитлере во всей красе. В неоднозначном романе «Доктор Фаустус» композитор Леверкюн является воплощением декаданса, олицетворением неизбежной кульминации процесса рационализации, который зашел слишком далеко. Как только книга была опубликована, дружбе между Манном и Шёнбергом пришел конец.
– Шёнберг злился, что Манн, работая над романом, прежде всего обратился за помощью к Адорно, – поясняет Корнелиус Шнаубер, когда мы с ним обедаем в Вествуде. – И к тому же он был раздражен из-за того, что его имя не было упомянуто в романе. Он боялся, что сто лет спустя люди будут думать, будто это Манн изобрел додекафонию. Шёнберг даже посылал сфальсифицированные письма от имени своих студентов, в которых выражал претензии в адрес Манна. От имени студентов, которых никогда не существовало! «Наш великий маэстро изобрел додекафонию… а через сто лет люди будут думать, что это сделал Манн, а не Шёнберг…»
Но на самом деле проблема была еще глубже, полагает Шнаубер:
– В восприятии Шёнберга додекафония была конструктивной системой, началом чего-то нового в рамках той традиции, которая берет свое начало от Баха. Но в «Докторе Фаустусе» эту систему изобретает герой, живущий накануне Всемирного Потопа. Леверкюн ведь олицетворяет собой крах немецкой культуры и конец всего.
На карту была поставлена интерпретация самого понятия «современность», не больше и не меньше. И не имело значения, что «Доктор Фаустус» был весьма неоднозначным по этому пункту. Также не помогло и то, что Манн добавил несколько предложений об авторе додекафонии в американское издание романа. Манн и Шёнберг так никогда и не помирились.
5
Беззаботно светит солнце, и небо безмолвно-голубое. Тишина на возвышенностях Пасифик-Палисейдс время от времени прерывается шумом мотора серебристого «Ягуара» или агрессивной газонокосилки, управляемой гастарбайтером-мексиканцем. На Д’Эсте-драйв, в двух шагах от дома Манна, находится неказистый, похожий на ранчо коттедж. Здесь жил Макс Хоркхаймер со своей женой.
В доме – никого. Подъездная дорожка свободна. Интересно, была ли у Хоркхаймера машина? Этого я не знаю. Но если у четы Хоркхаймер не было машины, то тогда они создали статистическую аномалию. Уже в 1925 году в Лос-Анжделесе была высокая плотность автомобилей по отношению к числу жителей: по одной