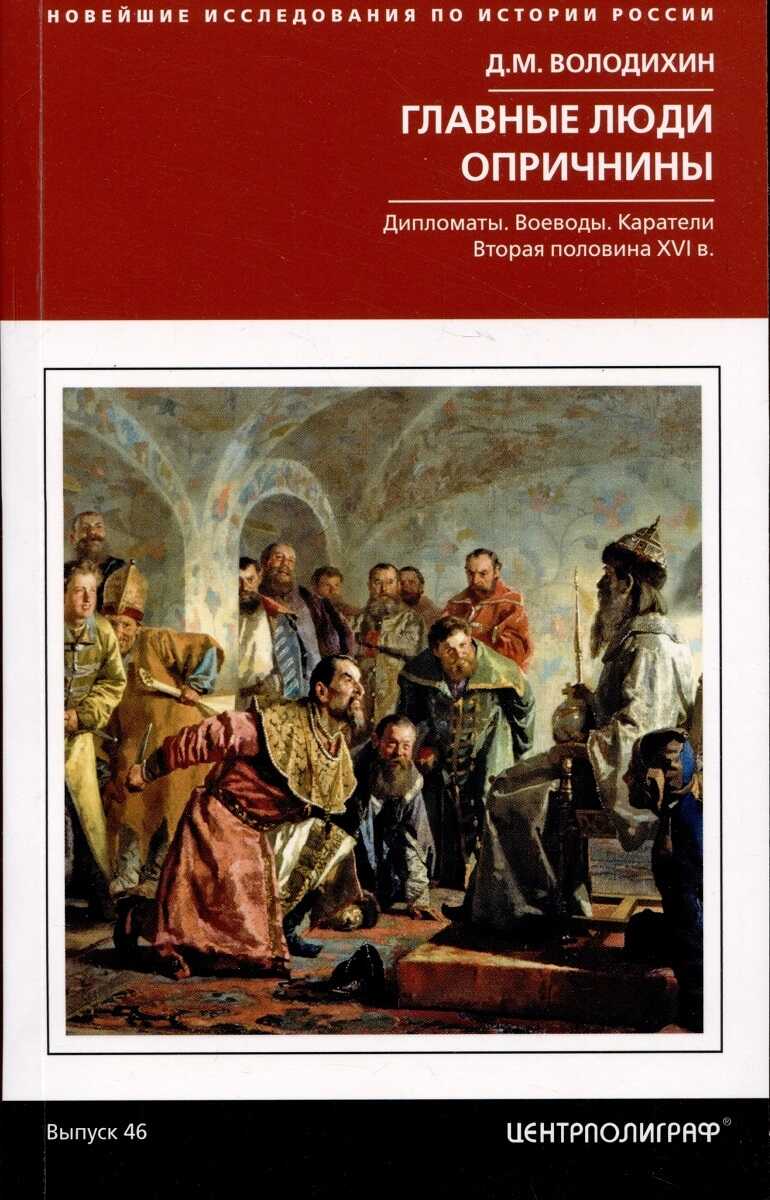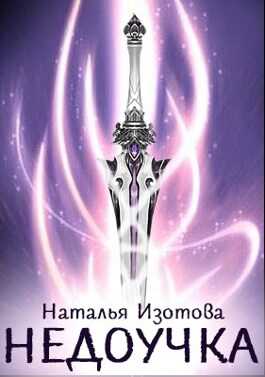class="p1">Бывает, сестренка моя тринадцатилетняя, вечно голодная, бледная, подбежит, хвать кусок хлеба со стола и сразу в рот. А мать на нее с кулаками и ну орать:
— Дрянь, безбожница! Рук не помыла!..
У меня чуть с языка не срывается: «Мама, а как же я?»
И кажется, она это чувствует и хочет ответить: «Сынок, тебе можно, ты деньги зарабатываешь».
Мне можно — я зарабатываю. Вот сейчас она пойдет в лавку, возьмет на мои деньги мяса, а завтра, в пятницу, купит свечи и перед наступлением субботы благословит их, закрыв ладонями худое, морщинистое лицо, чтобы никто не видел ее слез. Никто, кроме Бога, как она думает.
Мне очень жаль ее; я вижу ее до срока постаревшее лицо, погасшие, полные отчаяния глаза, вижу, как дрожат ее тонкие руки, когда она подает на стол, слышу ее тихий, слабый голос, и у меня сердце щемит, — но я ее не люблю…
Я бедный, забитый рабочий, от зари дотемна я тружусь на фабрике, смотрю на худые лица своих товарищей, слышу их жалобы, вижу перед глазами большие, пыльные окна, забранные железными решетками, как в тюрьме. Я никогда не видел просторного, светлого помещения, разве что однажды, когда пришел к фабриканту. Я ждал на кухне, и вдруг распахнулась дверь в залу, сверкнул свет, и дверь тут же снова закрылась, будто бы навсегда… И все-таки, не поверите, но в душе я богач, аристократ. Терпеть не могу бедности, бессилия, унижений. Сам не знаю, откуда это у меня. Отец, мать, дед, бабка — все покорно несли ярмо нищеты, доставшееся по наследству от десяти поколений предков, все привыкли к бедности и, даже не слишком жалуясь и вздыхая, кланялись, гнули спину за грош, за единственный маленький грошик. А я, их потомок, их кровь, так все это ненавижу, что у меня кулаки сжимаются, и я начинаю ненавидеть даже родную мать…
И часто, когда она подает на стол и я сажусь, швыряю в сторону шапку и принимаюсь за еду, а она тихо, как тень, ходит вокруг и притворяется, что ничего не видит, во мне все закипает, и я еле сдерживаюсь, чтобы не крикнуть: «Мама! Что же ты молчишь? Ударь меня, ущипни, поцарапай! Разозлись, закричи! Протестуй, когда твоего Бога покупают за четвертак! Не позволяй, борись!..»
А она подходит и, опустив голову, еле слышно спрашивает:
— Может, тебе к мясу немножко редьки положить?
«Мама, я же без шапки ем», — вертится у меня на языке, но мне жаль ее, и я сдерживаюсь.
Я не люблю ее, но я и себя не люблю.
А как я могу кого-нибудь любить?
1903
Суд
(Монолог члена профсоюза)
Правда хотите знать все от начала до конца? Прекрасно, я вам расскажу. Да пожалуйста, записывайте сколько хотите. Пусть весь мир узнает. Мне стыдиться нечего! Это пусть им будет стыдно! Тем, кто меня судил!
Еще дома, в местечке, я суда как огня боялся! «Умишпотим бал-йедоум ѓалелуйо!»[79] Эти слова я всегда с особым трепетом произносил. И, слава богу, меня ни разу под суд не отдали. Хотя нет, не буду врать. Однажды, когда разразилась эпидемия холеры и всюду за чистотой следили, урядник протокол составил, потому что я мусор у дверей выкинул, и меня судить собирались. Но я выложил полтинник, и суд, так сказать, отменили…
Я-то думал, в Америке мне суд не грозит! Свободная страна, доносов тут не пишут, за чистотой на наших «стритах» не слишком следят, налогов платить не надо, паспорт тоже не нужен. Свобода, делай что хочешь! И вдруг оказалось, что именно здесь, в свободной стране, меня отдали под суд! Сколько же здоровья и денег мне это стоило!
И кто же, думаете, меня судил? Гои? Янки? Американцы? Не тут-то было!
Евреи меня судили, мои братья!
Вот послушайте.
Дома, в местечке, я был бедным портным, шил что попало: женское платье — значит, женское платье, мужицкий кафтан — значит, кафтан. Специалистом не был. Но здесь так не пойдет. Тут у каждого своя специальность. Я шью быстро, поэтому выбрал «клоук», то есть женское пальто. С первой минуты, как я в Америке, я «клоук-мейкер».
Короче, до великой забастовки тут была настоящая свобода: хочешь сдельную оплату — работай за сдельную, хочешь повременную — работай за повременную, хочешь до трех пополудни работать — на здоровье! Никто тебе слова не скажет. Было время, я очень неплохо зарабатывал. Сорок долларов, представляете?! Правда, тяжело было, иногда только часа по два — по три в сутки спал, прямо в мастерской. Ложился прямо на ворох пальто или платьев, а через пару часиков вставал и опять за работу! Ну и что? Кому какое дело? Если у тебя сил хватает, то и слава богу, а выспаться и в субботу можно (по воскресеньям, кстати, я тоже тогда не работал и сейчас не работаю). Псалмы читать в синагогу идти не надо. Вернее, надо бы, конечно, да только никто не ходит!..
И вдруг заметили, что нехорошо получается: один по сорок долларов в неделю зарабатывает, а двадцать вообще без работы…
*
Короче, слушайте! Везде одно и то же: у кого руки откуда надо растут, кто не ленится, тот и зарабатывает. А те, что без работы сидят? Их, конечно, жалко, но сами скажите, я-то чем могу им помочь? А меня не жалко? Поверьте, сорок в неделю — это не так уж много. Между прочим, я сюда жену с четырьмя детьми привез, а тут еще трое родились, дай им Бог здоровья… И на счет надо время от времени пару долларов класть про черный день.
Ну вот, и вдруг — забастовка!
Вообще-то я считаю, это дело хорошее. Должны же рабочие за свои права бороться. Это не преступление… Но у меня дети, я у своего босса уже несколько лет проработал, и у меня к нему никаких претензий, он со мной очень хорошо обращался. Мой земляк все-таки… Так что пусть они там бастуют, а я буду себе работать потихоньку.
Но оказалось, что в Америке это тягчайшее преступление. В смысле, не против государства, государство как раз таких ценит, но у рабочих это называется «скэб»…[80] А «скэб» — это, считай, проклятый.
Короче, чего долго рассказывать? Бросил я работу. Нелегко было боссу отказать. Знаете, как он на меня посмотрел? У меня аж сердце защемило. Представьте: работаешь у человека пять лет, он каждую неделю «кэш» платит,