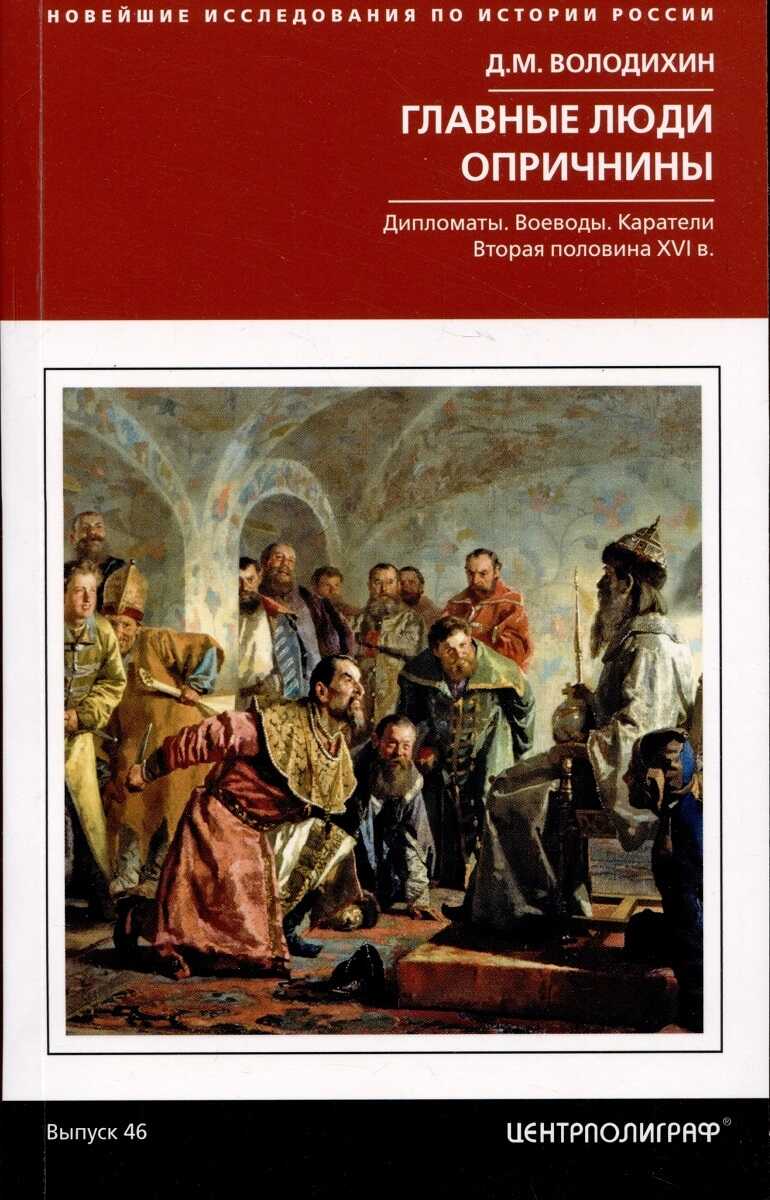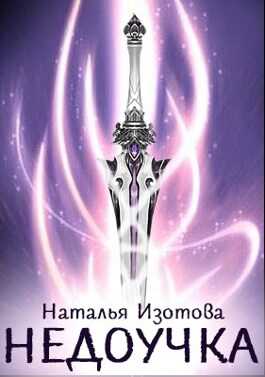то есть наличные, ничего к нему не имеешь и вдруг приходишь и говоришь: «Все, прекращаю работу!»
Но ничего не поделаешь, раз юнион решил, надо подчиняться. Это ж целое государство: служащие, делегаты, «органайзеры» всякие, секретари. Только что погон не носят.
Двенадцать недель забастовка длилась! Слава богу, я несколько долларов успел отложить. Правда, первые недели платили немного, но вскоре перестали. Где же столько денег взять? Это вам не шутки, пятьдесят тысяч «клоук-мейкеров» бастовало!
Кое-как двенадцать недель протянул. Думаете, я отдыхал, баклуши бил? Не тут-то было! Каждый вечер на митинги гоняли, а там ораторы часами рассказывали про власть пролетариата, что боссы до сих пор нашу кровь пили, но больше такого не будет. Один оратор уйдет — другой на его место и то же самое говорит, слово в слово, чтобы рабочие лучше поняли.
Не буду отрицать, за три месяца я кое-чему научился, немало английских слов узнал. Ораторы-то все уже давно в стране, много английских слов вставляют, но понять можно.
И, знаете, они меня убедили. Я почувствовал, что это несправедливо, когда босс так много зарабатывает, а рабочий так мало. Уже встал на их сторону, по-настоящему с ними был, всей душой. Поверил, что эти ораторы, эти деятели — наши друзья, наши защитники.
Только одного не смог — возненавидеть своего босса. Я всегда богатых уважал, это у меня в крови (а мой босс очень богатый). Даже представить себе не мог, с чего это я так возгоржусь, если я простой рабочий, а у него бизнес, в который тысячи долларов вложены.
А тут еще профсоюз выдвинул требование, чтобы рабочий с хозяином даже не разговаривал. Отработал девять часов — и домой!
Когда забастовка кончилась, на боссов смотреть было больно. Думаете, они убытки понесли? Нет, гораздо хуже. Они вообще перестали быть боссами. Уволить рабочего не могут, нового взять тоже. На все надо у юниона разрешение спрашивать. Понимаете? Что толку от денег, если ты никто и звать никак? Потому что, если подумать, в чем смысл богатства? В том, чтобы тебя боялись, уважали, в том, что ты — это ты, и твое слово — закон. А если у босса сотни рабочих, но никто с ним не считается, то и богатство не в радость…
Но до других боссов мне дела нет, а вот своего жалко стало. Во-первых, земляк, во-вторых, он привык, что к нему с уважением относятся. А человек-то он очень даже неплохой. Прямо сказать, хороший человек. Так почему бы и не выказать ему уважения, по крайней мере того, которого он заслуживает?
Вот тут мои беды и начались. Что нельзя работать столько же, сколько до забастовки, меня не сильно огорчило. Хотите, чтобы я работал девять часов, — пускай будет девять. Пускай работы на всех хватает, я в этом греха не вижу. Но какое вам дело, что мы с боссом приятели? Ну, прихожу я пораньше, чтобы с ним словом перекинуться, ну, задерживаюсь на полчаса — на час, чтобы он мне свои горести поведал. Я не против. Он на профсоюз жалуется, душу мне изливает, а мне что, послушать трудно? Отобрали у царя корону, власть, армию и сказали: «Твоего золота, твоих сокровищ нам не надо, можешь их себе оставить, но в государственные дела не лезь, это тебя не касается!» Точь-в-точь как с персидским шахом, турецким султаном и португальским королем, я в газетах читал.
Бывает, утешаю его, дескать, Бог поможет. Бывает, просто доброе слово скажу, бывает, если срочная работа, остаюсь, когда все уходят, запираюсь в кладовой и доделываю.
Не могу я ему отказать.
Но остальные-то заметили.
И вот подходит ко мне один молокосос, которому я в лучшие годы и отвечать бы не стал, и спрашивает:
— Что это, мистер, у вас за разговоры с боссом?
А я нарочно, ему назло, эдак гордо отвечаю:
— А с кем мне разговаривать, с тобой, что ли?
И слышу, в цеху шумно стало.
Мастер-то на моей стороне, им, мастерам, эта забастовка ни шла ни ехала, у них после нее тоже право голоса отобрали, но чем он может помочь? Только подмигнул, держись, мол.
В конце дня собираются рабочие по домам. Собираются, да не уходят.
А я привык последним уходить…
— Ну, мистер, что ж вы домой не идете? — спрашивают у меня несколько молодых.
— А я не спешу. — Меня уже зло взяло.
В общем, добился своего, остался в цеху один.
Поговорил с хозяином, высказал ему все, что о них думаю…
А на другой день получаю из юниона что-то вроде повестки.
Прочитал и подумал: «Они же евреи все-таки, а не гои». И не пошел.
А послезавтра являются на фабрику двое делегатов и снимают меня с работы.
Босс спрашивает:
— Что вам от него надо, в чем он провинился?
Они в ответ:
— Разберемся.
В общем, что тут долго рассказывать, устроили суд, как в России: председатель, присяжные, прокурор.
Только адвоката не было.
И приговор: семьдесят пять долларов штрафа и перевод на другую фабрику.
Считайте, на поселение…
Мне не так денег было жалко, как того, что на другую фабрику перевели.
Правда, цех, где теперь работаю, гораздо просторнее, светлее, воздуху больше, первый этаж, у окна. Если, не дай бог, пожар, можно сразу выскочить… Но не нравится мне тут. Другие рабочие на меня как на преступника смотрят, следят за мной. Попал «под надзор»… Чтобы с боссом не разговаривал…
Невдомек этим ребятам, что на нового босса я чихать хотел, и потом, он не из наших, немецкий еврей, он и сам со мной говорить не захочет.
Но их дело следить за мной…
Да только где им уследить? Раз в неделю я все равно к своему бывшему боссу заглядываю.
Изливаю перед ним душу. Он меня утешает, а я его. До сих пор надеемся, что рано или поздно юнион меня помилует.
1903
Кража
Любовь прошла. Герман давно понял, что они с Фридой скоро расстанутся. Но предстоящий разрыв не пугал его, как бывало раньше, с другими девушками. Он был достаточно закален, чтобы героически перенести удар. Правда, он считал, что Фрида лучше и красивей их всех. Но Герман знал по опыту, что потерянной любви не вернешь. Не стоит себя обманывать.
Ничего! Он мужчина, он сильный, переживет. Но все-таки сердце не хотело смириться, и Германа по-прежнему тянуло к этой белокурой, стройной, милой девушке. Душа тосковала по ее поцелуям, объятиям, прикосновениям прекрасных белых обнаженных рук. Но