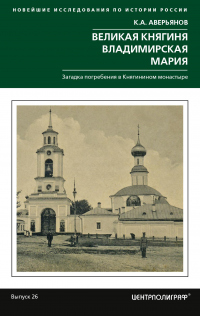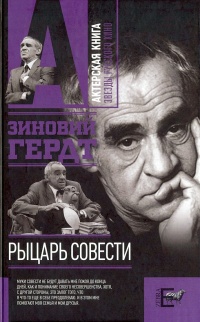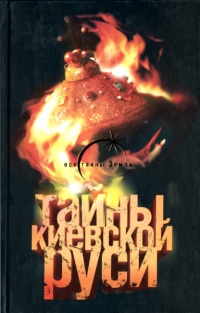Пока я учился в колледже, время от времени встречался с Селестой. С другими женщинами тоже. Однако свидания требовали вдумчивости и планирования, а в медицинской школе подобная роскошь стала мне недоступна. Я зависал с Селестой, но на свидания это не было похоже. Она почти ничего не требовала от меня, а взамен давала практически все. Она была покладиста и жизнерадостна, хороша собой и не отвлекала от основных занятий. Когда я ездил в Филадельфию на поезде, она ездила со мной. Мы с Мэйв подвозили ее до Райдала, однако Селеста никогда не настаивала, чтобы я проводил время с ее семьей. В те дни Мэйв и Селеста по-прежнему нравились друг другу. Мэйв была счастлива, потому что Колумбийский был дорогим и престижным, а стипендию я не получал. Селеста была рада, потому что это значительно севернее, чем основной корпус университета, а значит, ей проще было добираться до меня от колледжа Томаса Мора, где она заканчивала бакалавриат по англоязычной литературе. Моя квартирка была в двух кварталах от медицинского, и Селеста приезжала из Бронкса после занятий в пятницу и оставалась у меня до утра понедельника, когда ей нужно было появиться на работе в приемной декана. Когда я учился в колледже, мы плясали от расписания моего соседа по комнате, но в медшколе у нас получилось что-то вроде брака выходного дня, и, сказать по правде, для нас обоих это был, пожалуй, наилучший вариант. Мы жили, руководствуясь правилами, которые разработали еще в поезде: мне нужно заниматься, а она не должна мне мешать. Но это была Америка 1969-го: бушевала война, протестующие заполняли улицы, студенты по-прежнему устраивали забастовки в административных помещениях, и у нас было столько свободного от чувства вины и защищенного диафрагмой секса, сколько позволяло время. Я всегда буду ассоциировать изучение анатомии человека не с трупом, а с молодым обнаженным телом Селесты на моей кровати. Она позволяла мне проводить руками по каждому мускулу и косточке, называя их по ходу дела. Те части ее тела, что я не видел, я чувствовал, и таким образом узнал, как максимально крепко привязать ее к себе. То немногое веселье, которое было у меня в те дни, было связано с Селестой — порция сычуаньской лапши в белых бумажных коробочках на крыше больницы поздно вечером, или контрамарки на «Полуночного ковбоя», которые раздобыл ее преподаватель французского, рассчитывавший пойти с ней. Все было просто замечательно, пока она не стала задумываться о своем предстоящем выпуске. Ей хотелось начать планировать будущее. Как раз тогда она сказала, что нам стоит пожениться.
— Я не могу жениться, проучившись всего один курс, — сказал я, умолчав о том, что вообще не хочу жениться. — Дальше все будет только сложнее, не легче.
— Но мои родители не позволят нам жить вместе, и они не будут оплачивать мне жилье, чтобы я подождала, пока ты выпустишься. Они не могут себе этого позволить.
— Значит, работать пойдешь. Люди после колледжа так и поступают.
Но как только я это сказал, до меня дошло, что она воспринимала меня как свою работу. Курс поэзии и диплом по Троллопу — все это замечательно, но истинным предметом ее изучения был я. Она планировала содержать в чистоте нашу квартирку, готовить ужины, а со временем родить ребенка. Женщины читали в книгах о движении за равноправие, но немногие из них представляли себе, как все это на самом деле работает. Селеста понятия не имела, что ей делать с жизнью, когда та будет в полном ее распоряжении.
— То есть ты бросаешь меня, — сказала она.
— Я не бросаю тебя, — у меня уже было то, чего я хотел: три ночи в неделю. И если уж начистоту, я прекрасно обошелся бы и двумя. Я не понимал, зачем оставаться в ночь с воскресенья на понедельник и потом ни свет ни заря нестись на поезд, чтобы успеть на занятия в колледж.
Селеста присела на кровать и, ссутулившись, уставилась в окно на грязную вентиляционную шахту и кирпичную стену за ней. Ее очаровательные светлые кудри спутались на поникших плечах, и мне хотелось сказать, чтобы она села прямо. В ее жизни все сложилось бы гораздо лучше, если бы она умела сидеть с прямой спиной.
— Если все это ни к чему не ведет, значит, ты меня бросаешь.
— Я не бросаю тебя, — повторил я снова, но не присел на кровать рядом с ней, не взял ее за руку.
Ее неправдоподобно круглые голубые глаза наполнились слезами.
— Почему же ты мне не поможешь? — спросила она так тихо, что я едва расслышал.
* * *
— Помочь ей? — сказала Мэйв. — Речь не о переезде на другую квартиру. Она хочет, чтобы ты на ней женился.
В те выходные я приехал домой на поезде. Мне нужно было поговорить с сестрой. Хорошенько все обдумать, чтобы при этом рядом в кровати не лежала Селеста, которая, несмотря на все ее заявления, будто я ее бросаю, продолжала ночевать у меня с пятницы по понедельник. Я приехал домой, чтобы расставить все по местам.
Мэйв сказала, что у нее в бардачке лежит пачка сигарет на экстренный случай, и мы решили, что это отличный повод развязать. Юная листва и первоцветы уже перегораживали нам вид на Голландский дом. Корольки прочесывали тротуары в поисках прутиков.
— Ты не можешь жениться на ней в конце первого курса. Это безумие. И у нее нет никакого права тебя об этом просить. Да и после окончания, в интернатуре, все только усложнится. У тебя не будет свободного времени, пока ты не закончишь.
Учеба в медицинской школе была чем-то вроде одной долгой игры в бадминтон. Я не знал, что буду делать, когда все станет еще сложнее. А оно станет.
— Когда я закончу учиться, времени у меня точно не будет, — сказал я. — Я начну практиковать, устроюсь на работу. Или не буду практиковать, потому что видал медицину сама знаешь где, поэтому мне придется искать другую работу, и вот тогда уж точно времени не будет. Это отговорка до конца моих дней, согласна? Сейчас неподходящее время.
Хотя доктор Эйбл сказал, все будет иначе: первый год, да, самый трудный, но есть еще и второй, и третий. Он сказал, что по мере овладения новыми знаниями и навыками мне будет все легче и легче. О Селесте доктору Эйблу я не рассказывал.
Мэйв сдернула с пачки целлофан. По тому, как она прикурила, мне стало очевидно, что она и не думала бросать. Слишком органично она выглядела с сигаретой, слишком расслабленной была.
— Значит, все дело во времени, — сказала она. — Ты заслуживаешь семью, но момент никогда не будет подходящим.
— Диабетикам нельзя курить. — Я уже достаточно проучился на врача, чтобы знать об этом. Хотя на самом деле к медшколе это знание не имело никакого отношения.
— Диабетикам ничего нельзя.
— Ты проверяла сахар?
— Ты что, собираешься о сахаре меня спрашивать? Не уходи от темы. Что ты намерен делать с Селестой?
— Мы могли бы пожениться летом. — Я всего лишь хотел ее позлить, потому что и она меня злила, но как только я это сказал, то понял: звучит на удивление резонно. Почему бы и нет? Чистая квартира, вкусная еда, много секса, счастливая Селеста — такого уровня взрослой жизни я раньше себе и не представлял. Я повторил фразу еще раз, будто пробуя ее на вкус. Звучало очень по-житейски. Мы могли бы пожениться летом. Все различные сценарии, которые я разыгрывал в своем воображении до сих пор, включали разочарование Селесты — ей будет больно, и я буду чувствовать себя виноватым, а потом, когда все закончится, стану скучать по голой девушке в своей постели. Но я никогда не рассматривал возможность сказать «да»; думал об этом как о неподходящем времени в длинной череде неподходящих времен. Может, пожениться сейчас — не самый плохой вариант. А то и лучший.