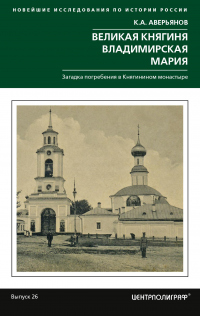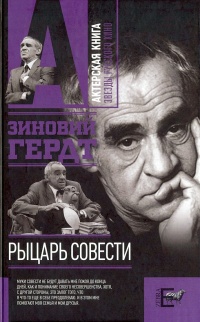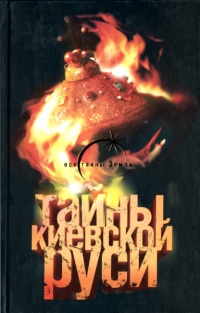Согласно принципу Архимеда, на любое тело, полностью или частично погруженное в жидкую среду в состоянии покоя, действует подъемная сила, равная весу жидкости, вытесненной телом. Или, другими словами, можно погрузить в воду мяч, но, как только вы отпустите руки, его вытолкнет наружу. Вот и я на протяжении всей своей бесконечной академической карьеры подавлял собственную природу. Я делал все, что от меня требовалось, но также украдкой отслеживал здания, выставленные на продажу, мимо которых мне случалось проходить: запрашиваемая цена, продажная цена, количество недель на рынке. Я ошивался на задних рядах аукционов по выкупу заложенного имущества — привычка, от которой потом трудно было избавиться. Как и Селеста, я получил пятерку по органической химии. Во втором семестре я записался на биохимию, а на выпускном курсе — на экспериментальную физику. Доктор Эйбл, с которым мы познакомились, когда я тонул, больше глаз с меня не спускал. Не считая начала первого семестра, я был хорошим студентом, но даже после того, как я восстановил свое положение, он всегда считал, что я могу справляться лучше. Он научил меня, как усваивать и закреплять знания — до тех пор, пока все ответы не будут от зубов отскакивать. Я сказал, что хочу стать врачом, и он мне поверил. Когда пришло время подавать заявку, он не только написал мне рекомендательное письмо, но самолично отнес документы — а это двадцать кварталов пешком — директору приемной комиссии медицинской школы Колумбийского университета.
Тот факт, что мне никогда не хотелось быть врачом, был лишь сноской в истории, которая никого не интересовала. Можно подумать, что невозможно преуспеть в чем-то настолько сложном, как медицина, не имея при этом желания, но оказалось, что я стал последователем давней и благородной традиции самоподавления. Полагаю, что по крайней мере половина моих однокурсников предпочла бы оказаться в каком-нибудь другом месте. Мы просто соответствовали возложенным на нас ожиданиям: сыновья врачей, от которых ждали, что они станут врачами в поддержание семейной традиции; сыновья иммигрантов, от которых ждали, что они станут врачами и поправят положение семьи; сыновья, от которых требовалось выкладываться по полной и быть самыми умными, тоже должны были стать врачами, потому что в те дни медицина по-прежнему была престижным занятием для умных детишек. Женщинам еще не разрешалось поступать в бакалавриат Колумбийского университета, однако в моем медицинском классе несколько все же учились. Кто знает, возможно, они как раз и были теми, кто хотел туда попасть. В 1970-м никто не ожидал, что его дочь станет врачом, и дочерям приходилось бороться за это право. В Т-Х — как мы называли терапевтическо-хирургический колледж — была неплохая театральная труппа из студентов-медиков. Смотреть на выступления мрачных рентгенологов и урологов с драматически подведенными глазами, разражающихся ликующей песней, — значило видеть, что эти молодые люди могли бы сделать со своей жизнью, если бы она принадлежала только им.
Первый день профориентации проходил в аудитории, расположением мест напоминавшей стадион. Разнообразные профессора представляли нам невероятные врачебные случаи и заверяли, что к окончанию года мы будем в состоянии если не вести этих больных, то по крайней мере обсуждать их истории со знанием дела. Глава отделения кардиохирургии вышел на кафедру, чтобы воспеть чудеса их факультета, и мальчишки, пообещавшие матерям, что они будут проводить операции на сердце, засвистели, заулюлюкали и зааплодировали, и каждый думал про себя, что однажды займет его место — повелителя вот этого всего. Затем вышел невролог и сорвал свою порцию оваций. Один за другим свою минуту славы получал каждый орган человеческого тела. Почки! Легкие! Как же все сияли! Мы были кучкой самых умных идиотов в округе.
Поступив в магистратуру, я получил квартиру с телефоном. У каждого была такая. Даже на первом курсе от нас требовалось знать, что нас могут вызвать в больницу в любое время суток. Мой телефон зазвонил, когда я вернулся домой на второй неделе обучения.
— У меня потрясающая новость! — сказала Мэйв. Тарифы на междугородние звонки снижались в шесть часов, а затем еще снижались в десять. Часы показывали пять минут одиннадцатого.
— Весь внимание.
— Я сегодня обедала с адвокатом Гучем — просто так, он, похоже, решил занять в моей жизни место отца. И прямо во время обеда он сказал, что ему звонила Андреа.
В былые времена эта новость взвинтила бы меня до предела, но я слишком устал, чтобы удивляться. Если прямо сейчас сяду за домашнее задание, к двум часам ночи буду уже в постели. «И?»
— Она позвонила, чтобы сказать, что, по ее мнению, отправлять тебя в медицинскую школу было чересчур. Она думала, фонд рассчитан только на колледж.
— С чего она это взяла?
— Ни с чего. Она сама так решила. Она сказала, что не возражала насчет Чоута, ведь ты только что потерял отца, но теперь ей кажется, что мы просто потрошим фонд.
— Но мы ровно этим и занимаемся. — Я присел на единственный кухонный стул и облокотился на столик. Телефон стоял на кухне, которую я называл кухонным шкафом. Я увидел таракана: он полз по передней стенке желтого металлического шкафчика, а потом проскользнул под дверь.
— Он сказал: она уточнила расценки в Колумбийском и выяснилось, что это самая дорогая медицинская школа в стране. Ты это знал? Номер один. Она сказала, это доказывает, что все это козни против нее и что ты мог бы поступить в Пенсильванский, и это было бы ровно в два раза дешевле, чем в Колумбийский, и сэкономило бы деньги для девочек. Она сказала, что больше не намерена платить за Колумбийский.
— Так она за него и не платит. Этим занимается фонд.
— Она считает себя ответственным лицом.
Я потер глаза и кивнул в пустоту.
— И что сказал адвокат Гуч? Это хоть что-нибудь меняет?
— Ничего! — ее ликующий голос звенел у меня в ухе. — Он сказал, ты можешь хоть на всю жизнь там остаться.
— Этому не бывать.
— Не спеши с выводами. Есть столько всего, чем можно заняться. Академическая карьера, например.
Я подумал о бесконечном лабиринте, который представлял собой университетский медцентр: профессора в белых халатах плывут по коридорам, как боги на небесах.
— Я не хочу быть врачом. Ты ведь это знаешь, правда?
Но этим ее было не пронять.
— Ты и не должен быть врачом, тебе лишь нужно на него выучиться. Когда закончишь, можешь хоть в медицинском сериале сниматься, мне-то какое дело. Да и вообще — будь кем хочешь, лишь бы это требовало длительного обучения. Иди беднякам помогай. — Мэйв вела вечерние занятия по финансовому учету в католических благотворительных организациях, а по вторникам допоздна засиживалась, проверяя их записи и выправляя подсчеты.
— Мне заниматься надо.
— Я бы хотела, чтобы и ты мог всему этому порадоваться, — сказала она. — Впрочем, нет, мне все равно. Моего счастья хватит на нас обоих.
Счастье было отложено на определенный срок. Я изучал гистологию человека, эмбриологию и анатомию. Принципы, которые мне вдалбливал доктор Эйбл, засели глубоко: я отвечал на каждый вопрос в конце каждой главы, а утром просыпался и отвечал на них снова. Нас разделили на группы по четверо, выделили труп, пилу и скальпель и сказали приниматься за работу. Единственный мертвец, которого я видел до сих пор, был мой отец, и мне легко представлялась группа стервятников в белых халатах, устроившихся вокруг его кровати в ожидании вскрытия. Разобрали, вновь собрали. Наш труп был старше моего отца и ростом поменьше — смуглый мужчина. Его рот был точно так же ужасающе открыт, будто это какой-то универсальный жест — попробовать сделать последний вдох и не смочь. Я мог бы подумать, что для того, чтобы разрезать и описать человека, мне понадобится хоть какая-то доля заинтересованности, но оказалось, что это не так. Я всего лишь выполнял задание. В тот первый день некоторых из моих однокурсников стошнило прямо в лаборатории, другие добрались до коридора, а некоторые даже до уборной, но меня вся эта резня не пронимала до тех пор, пока я не вышел на улицу, с болезненно-сладким душком формальдегида, застрявшим в ноздрях. Меня вывернуло на тротуар в Вашингтон-Хайтс — там, где блюют торчки и алкаши.