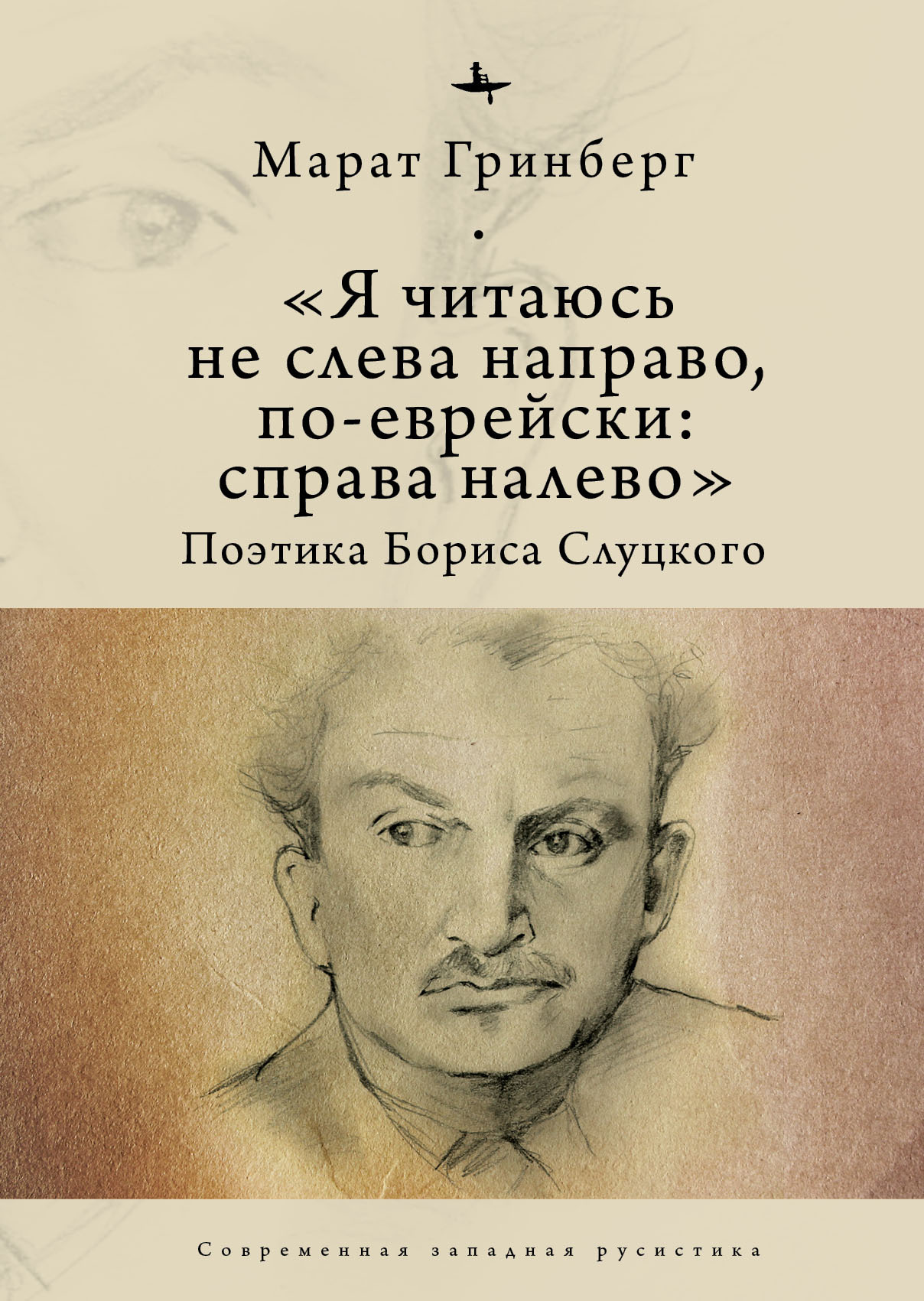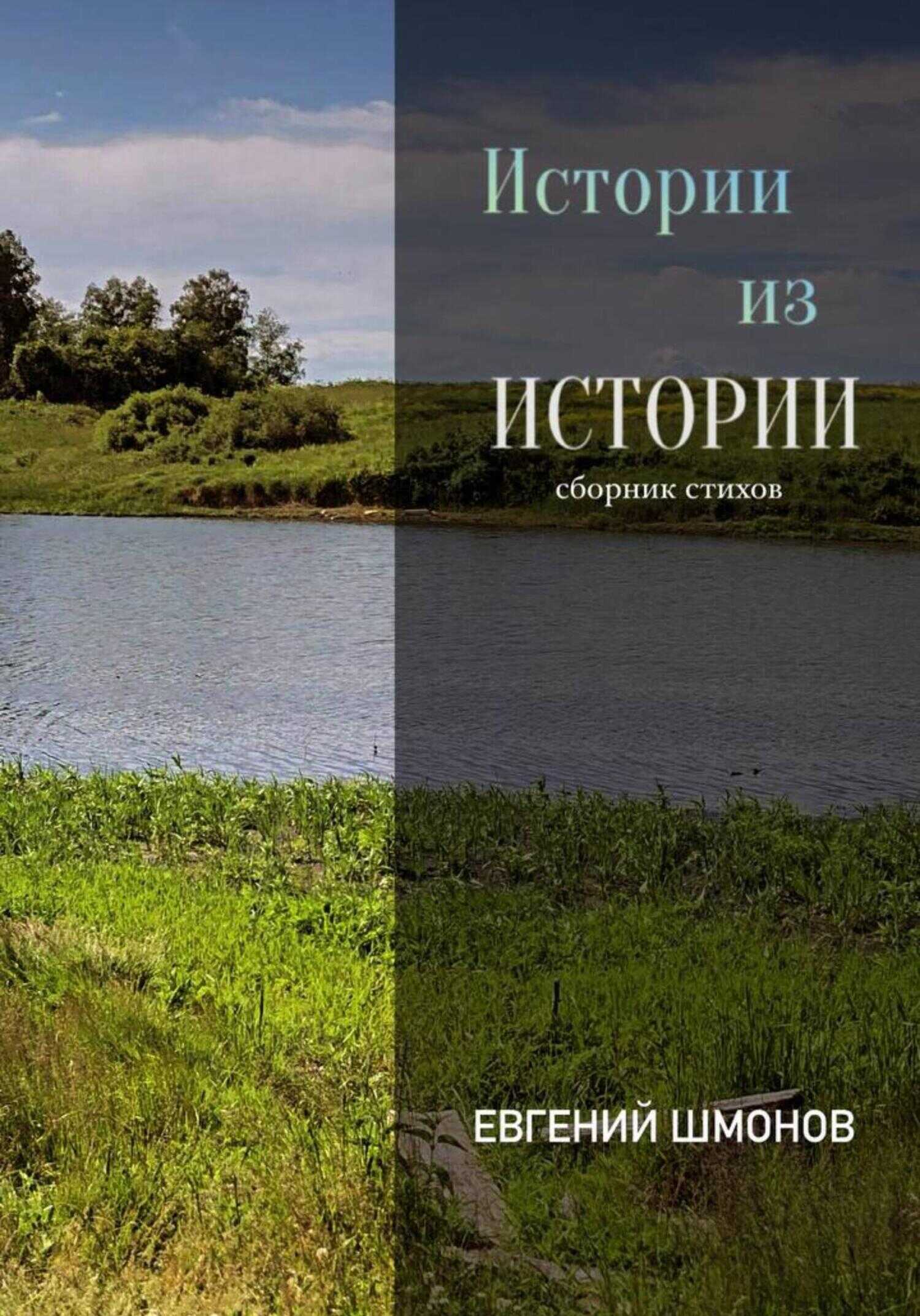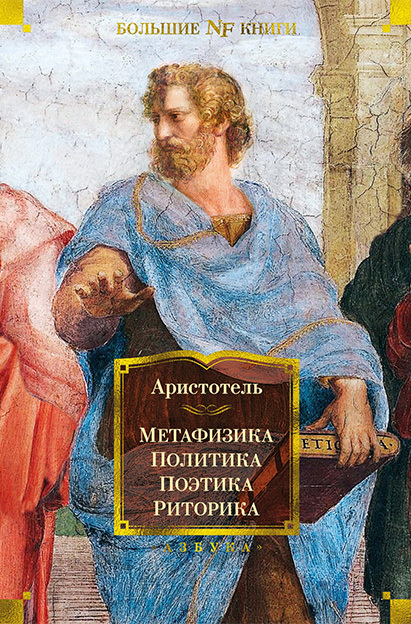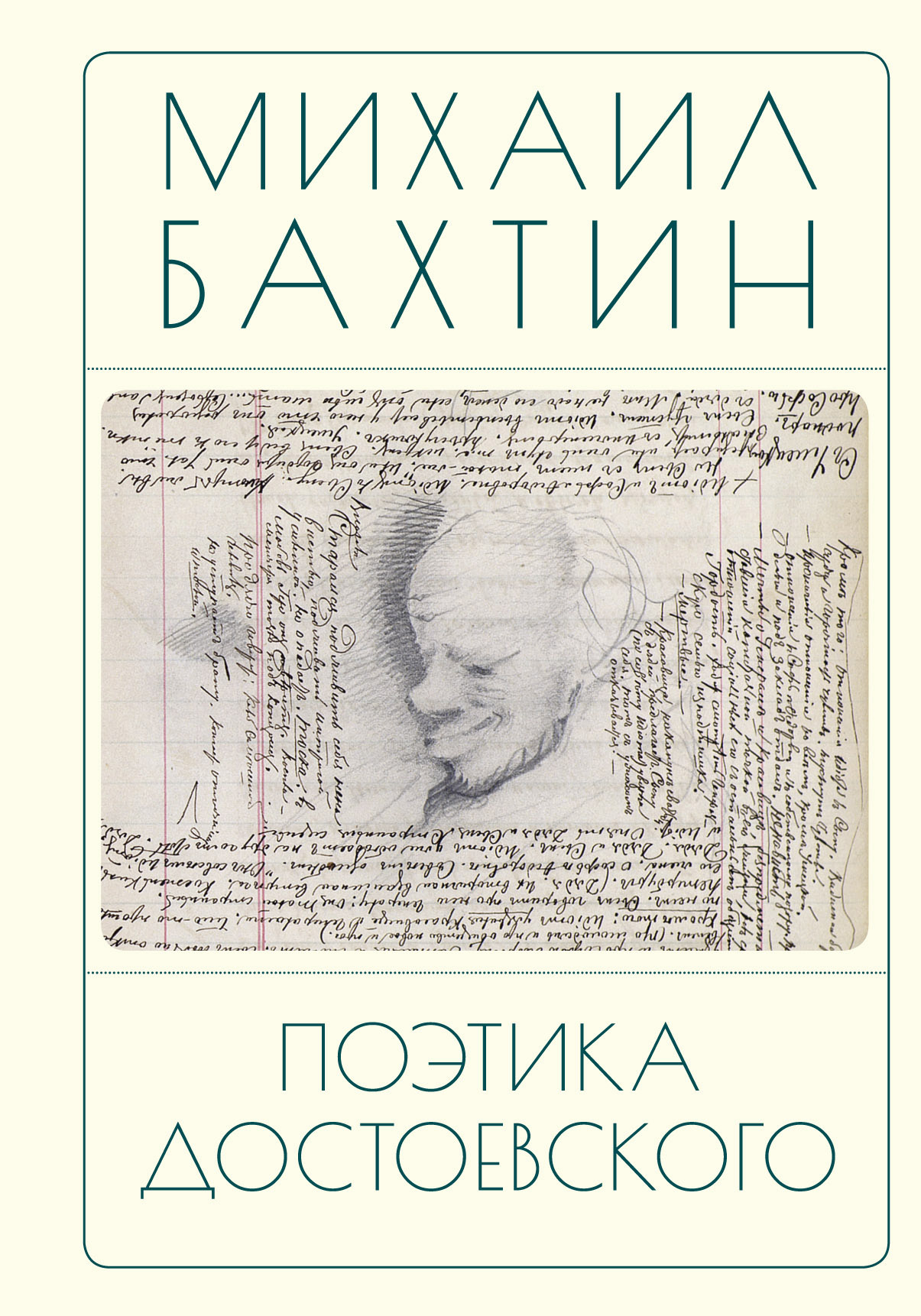но по собственному – диалоги для которого сочинил Харитонов)[452]. Однако все рушится весной 1975 года, когда Харитонов (если верить представленной им версии событий) знакомит у себя дома Хамдамова и Шилина. Харитоновский текст «А., Р., я» прозрачно описывает бурную ночную ссору между автором и неким «Рустамом», конкурирующими за внимание красавца «Алеши»:
Нет, говорю, ты там один, а Р. и я здесь. – Нет, тогда мы едем; едем, Рустам! – Ты, хочешь, езжай, а Р. ночует здесь; и в момент, когда А. переступил порог, я закрыл за ним дверь. Р. потянулся к задвижке – выпустите меня, я еду с ним (а А. с той стороны звонит в дверь, чтобы я выпустил Р.; а времени три часа ночи). – Зачем тебе с ним, ты же не наш. И я быстро закрыл дверь ещё на ключ и пошёл спрятал ключ, наконец, думаю, хоть в малом буду хозяином положения; не будет у них этого союза при мне, по крайней мере, и по справедливости. И вдруг Р. побелел и бросился на меня – дай ключ! Я успел схватить его за руки.
У меня задеревенели язык и десны от неожиданности и рот стал как забит ватой, когда я стал говорить. Я говорил спокойно – сейчас он уедет и поедешь ты, – но язык выдавал. Он кричал – я сумасшедший, у меня справка и сейчас я могу все. Он подцепил ведро и стал пинать по полу чтобы перебудить весь дом. А тот с той стороны непрерывно ему подавал звонки (122).
Результаты описанного конфликта оказываются самыми печальными: уязвленный Харитонов изгоняет Шилина из своей студии и разрывает отношения с Хамдамовым. «Этот жизненный эпизод вызвал у Харитонова глубокое потрясение, чем можно объяснить и тот факт, что очень сдержанный и корректный обычно Х<аритонов> иначе как „Гадина“ Хамдамова больше никогда не называл», – пишет Ярослав Могутин (1: 270). Строчки Харитонова, посвященные Хамдамову, пышут отныне самой лютой ненавистью: «Плечи узкие глаза узбецкие слепые. Ногиузбецкие короче туловища. Издали под пиджаком смотрятся как у людей. Запах калмыцкий на месте хуя писька. Не стоит. Гадина рисует, вышивает. Цветы куриной слепоты» (204). Что касается фигуры «Алеши» – которая начинает теперь регулярно встречаться в художественных текстах Харитонова – она, вероятно, имеет мало общего с прототипом; реальный человек превращен здесь почти в аллегорию жестокой и капризной красоты, в злого и ветреного ангела, запросто ускользающего от любовных притязаний автора: «А. привезут к богатым влиятельным людям как диковинку, снимут шубу, И. или К. усадят его с собой, подарят ему необыкновенные подарки и он начнет перед ними танцевать при убавленном свете, а те от А. забудут любить женщин и А. будет весело сознавать, как он сводит с ума кого захочет. А я теперь беден ему и никто в высших кругах, чтобы был интерес танцевать передо мной и оставаться со мной хоть на раз» (121).
Два важнейших прозаических текста, созданных Харитоновым в это время, – «Алеша Сережа» и «А., Р., я» – могут быть прочитаны как своего рода диптих: в каждом из них описан любовный треугольник, организованный автором ради куртуазной «игры», но ведущий в итоге к потере «Алеши». В известном смысле, Харитонов продолжает исследовать все тот же мотив «невозможности управления»; но теперь автору уже не нужны подземные ходы, своевольные предметы и похожие друг на друга люди – ситуация выходит из-под контроля, даже если в ней задействованы всего две комнаты и три человека.
В «Алеше Сереже» неопределенность будущего, неясность разрешения коллизии выражается через настойчивое использование инфинитивов – неопределенных форм глаголов. Инфинитивами – «быть», «мечтать», «дарить», «возить», «любить», «целовать» – пронизана вся первая часть рассказа: «Но не открывайте ему этого, и не открывайте что любят того кем хотелось бы быть и невозможно быть, что вы хотели бы быть им и завидуете его виду, что ему не надо тратить усилий в любви, он ясно увидит что вы говорите правду и что вы просто хуже его и не представляете в своем роде той силы, какой ему до невозможности хотелось бы быть умирая от любви целовать целовать целовать беря поцелуями всё чего у него самого нет и не будет» (104). Главный герой, без сомнения, рассчитывает стать субъектом при предикатах «любить» и «целовать» – но сам выбор формы глагола сопротивляется этому. Посыл инфинитивного письма заключается как раз в том, что «любить» и «целовать» Алешу может кто угодно; грамматика здесь ничего не предписывает – напротив, хранит намеренную неопределенность. Собственно, из этого свойства инфинитива и вырастает сюжет – Алешу сначала любит рассказчик, потом – Сережа, потом – еще какой-нибудь «новый человек» (107), к которому Алеша перевезет свой талисман. Чуть заостряя, можно было бы сказать, что инфинитив становится грамматическим коррелятом промискуитета: «ходит в чем попало и просто привяжется будет любить того кто его будет любить, сам станет о вас заботиться» (104).
Момент разрешения ситуации (уход Алеши вместе с Сережей из дома рассказчика) ознаменован появлением глаголов прошедшего времени, словно бы подчеркивающих непоправимость случившегося – при этом рассказчик пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, отчаянно представляя непредвиденную ситуацию как заранее продуманный план: «И тогда мне пришло в голову повернуть так, как будто я с самого начала Алёшу испытывал. Я Алёше сказал: это я придумал дать тебе свободу под видом игры – не зря, значит, думал даю свободу, со мной, я видел, у тебя ее не было. А ты не понял проверки, обрадовался и поступил, наконец, как хотел» (107). И далее: «Теперь я в жизни тебя не люблю, потому что для этой любви надо было чтобы и ты меня любил не меньше» (107). Размежевание, якобы запланированное главным героем, выражено здесь грамматически – рассказчик действует в изъявительном наклонении («я в жизни тебя не люблю»), а Алеша – в сослагательном («надо было чтобы и ты меня любил»); момент расхождения, отклонения жизненных траекторий двух любовников зафиксирован в разнице между индикативом и субъюнктивом. Однако на самом деле главный герой вовсе не ожидал такого итога – и после ухода Алеши текст опять окутывается туманом; неопределенность, до того растворенная в инфинитивном письме, конденсируется теперь в сослагательных частицах, покрывающих поверхность рассказа: «И как только он признался бы что ее нет и невозможно стало бы больше обманываться, так ее у него точно бы не стало. А так ещё могла бы быть, он бы выигрался в обман не признаваясь что это обман, она у него из неясности бы развилась» (107). Перед нами одновременно