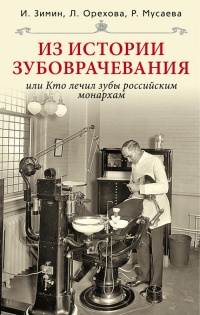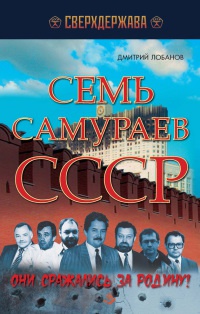не меньше часа рассказывал о маленькой картине Карло Кривелли из венецианской Академии, изображавшей четверых святых, — одного из них, святого Роха, который невозмутимо демонстрировал зрителю чумной бубон, означавший бы для обычного, не святого, близкую и мучительную смерть, доктор, кажется, почитал отчасти своим покровителем — не только из-за его безусловных медицинских заслуг, но и — парадоксальным образом — потому, что названная в его честь скуола была в живописном смысле едва ли не самой богатой в Венеции. Странными были эти собеседования о пышном европейском Возрождении, происходившие за тысячи километров от Италии в темной и мрачной Тотьме, прерывавшиеся порой визитами кого-то из больничной прислуги или стуком в дверь, возвещавшим срочный вызов к пациенту.
Иногда, придя к доктору, обнаруживали расставленный посередине гостиной мольберт с сохнущей на нем новой его работой: то диковинную бабочку с женским лицом, медленно парящую на фоне узнаваемой излучины Песьей-Деньги, то трех крупных летучих мышей в вицмундирах, чинно едущих куда-то на шестилапой росомахе со шкиперской трубкой в белоснежных зубах. Выставлены холсты были вроде как случайно, в ожидании пока высохнет лак, но видно было, что доктору буквально не терпелось узнать, какое впечатление они производят на его новых друзей. Рундальцовы и Клавдия были, судя по всему, единственными в Тотьме, кто видел его свежие картины. Кое-что он иногда посылал на столичные выставки: понять по названиям, которому из новомодных художественных объединений могут подойти прихотливые плоды его музы, было мудрено: смелый по имени «Треугольник» отвечал отказом, а, напротив, вполне традиционный по звучанию «Венок» принял две работы (в прах, кстати, разбраненные критикой). Понятно, что под своим именем доктор выставляться не хотел ни при каких условиях — покойный немец-аптекарь, наградивший его при рождении фамилией Веласкес, не мог, конечно, предполагать, насколько некстати она окажется для повзрослевшего сына. «С другой стороны, — говорил рассудительно сын, — Рафаэль было бы еще хуже». В минуту находившей на него временами угрюмой веселости он взял себе псевдоним Некрофилин — сперва, кажется, посылая картину на конкурс изображений дьявола, проводившийся московскими «Аргонавтами», а позже использовал в качестве основного. Дьявол в его изображении был девочкой-гимназисткой с длинной косой и смотрящими прямо на зрителя круглыми желтыми глазами с едва проработанными зрачками: на левом плече у нее сидела маленькая сова-сплюшка. Только приглядевшись, можно было увидеть у девочки еле видный из-под черного гимназического платья кончик хвоста с кисточкой, как у льва. Работу на конкурс не приняли.
Моделью для портрета послужила одна из двух приемных дочерей вологодской дамы, Елизаветы Александровны Мамариной, наследницы небольшого состояния, составленного ее бережливым отцом на розничной торговле. Среди вологжан определенного класса было принято, в подражание москвичам и петербуржцам, заводить себе дачу для летнего отдыха (хотя, конечно, никакой прямой нужды в этом не было) — и у Мамариной был выстроен небольшой домик в нескольких верстах от Тотьмы, на берегу реки. Некоторое время назад она по какому-то случаю послала за доктором: тот приехал, прописал лекарство, утешил, успокоил и произвел на нее настолько сильное впечатление, что несколько дней спустя она явилась к нему сама. Ездила она обычно верхом, амазонкой, хотя и в мужском костюме, к изумлению и неудовольствию женской части обывателей: высокорослая, бледная, плотная, длинношеяя, с развевающимися рыжими волосами, которыми особенно гордилась. Для хмурой чопорной Тотьмы даже что-нибудь одно из этого было бы чересчур, но доктор, понятно, и ухом не повел: помог ей слезть (он как раз в момент ее прибытия был на улице), подождал, пока она привяжет лошадь, и пригласил в дом.
Как сам он не без смущения признавался годы спустя, он недооценил требовательность ее натуры и глубину вологодской эмансипации. Мамарина писала стихи, рисовала акварелью, музицировала, читала душещипательные романы на трех языках — и при этом изнемогала от скуки и осознания зазря проходящей жизни. Ей все и всегда казалось не так: устроившись чудесным летним утром в шезлонге с книгой, она переживала из-за слишком яркого солнца, которое могло сжечь ее чересчур светлую кожу; из-за несделанных дел по дому; из-за того, что книга слишком глупа, что в ней написана неправда, и что ей, Мамариной, скоро будет тридцать и она все еще не замужем. Главная ее беда была в неумении быть удовлетворенной нынешней минутой — причем постоянно сопровождающее ее тягостное недовольство доходило даже до озлобления, заканчиваясь истерическими припадками. В Вологде у нее был постоянный круг друзей и поклонников, шумно восхищавшихся каждым новым ее стихотворением и каждой новой акварелью: то принимая эти знаки восторга за чистую монету, то погружаясь, напротив, в пароксизмы неприязни к собственной персоне, она держала себя с ними до болезненности переменчиво. Созвав полтора десятка гостей на импровизированный праздник по случаю, например, написания сонета в честь расцветшей сирени, она могла посреди восторженных ахов и охов вдруг встать из-за стола и запереться, рыдая, в собственной спальне — и напрасно гость за гостем стучали в дверь и вкрадчиво просили вернуться: ответом им было молчание, прерываемое редкими всхлипываниями. Впрочем, вино у нее, хоть и самое дешевое, лилось рекой, так что посетители не переводились, невзирая на перспективу неожиданного неврастенического финала, нависавшую над каждым пиршеством.
Несколько лет назад она, находясь под влиянием очередного порыва (все, что она делала, происходило всегда на волне вдруг возникшего чувства), взяла из приюта двух девочек-погодок, сестер, чьи родители утонули в грозу во время переправы через Сухону. Теоретически для этого требовалось получить особенное разрешение в каких-то губернских бюрократических глубинах, но ей, благодаря связям, удалось оформить опекунство так просто, как если бы она покупала двух породистых щенков. Впрочем, и отношение у нее к девочкам было скорее как к бессловесным питомцам: из-за обычной переменчивости ее натуры она переходила от судорог восторга, когда часами могла наряжать их, кутать, укачивать на коленях и покрывать поцелуями, к долгим периодам хмурой неприязни, когда девочкам крепко доставалось за любую, даже мнимую провинность. Иногда настроения эти чередовались несколько раз на протяжении нескольких часов: вот малышки, наряженные как ангелочки, поют и танцуют под аккомпанемент приемной мамаши, которая со слезами умиления на глазах любуется на их потешные ужимки; а четвертью часа позже она визгливо кричит, упрекая во всех грехах и сдирая с них кукольные одежки. Можно себе представить, каково жилось у нее девочкам. При этом в присутствии чужих она старалась вести себя с ними нежно до слащавости, так что многочисленные приятельницы и особенно приятели считали ее образцом великодушия. «Знали бы вы, каких жертв потребовало от меня материнство, — любила она говорить, покачивая головой