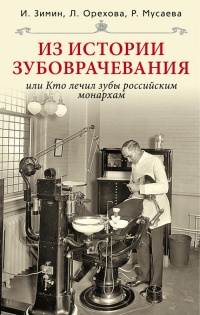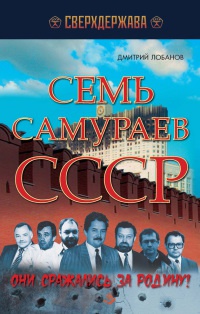Книга Тень за правым плечом - Александр Львович Соболев

- Жанр: Книги / Историческая проза
- Автор: Александр Львович Соболев
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
В антикварном магазине Вены обнаружена рукопись — мемуары неизвестного лица, проживавшего в 1916 году в Вологодской губернии. Почти против воли автор записок оказывается вовлечен в череду тревожных и таинственных событий революционной поры. Каков будет выбор героини: слепота или зоркость, бескорыстие или овладение, помощь или пагуба? Впрочем, хитросплетения фабулы не заслоняют иные аспекты романа, по-новому трактующие вечные и одновременно животрепещущие темы: хрупкость существования, трагичность истории, вина и ответственность, достоинство личности и непредсказуемость судьбы. Александр Соболев — филолог, знаток и исследователь поэзии Серебряного века. Первый роман автора, «Грифоны охраняют лиру» (2021), заинтересованно встреченный критиками и читателями, вошел в короткий список премии Андрея Белого.
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Тень за правым плечом - Александр Львович Соболев», после закрытия браузера.