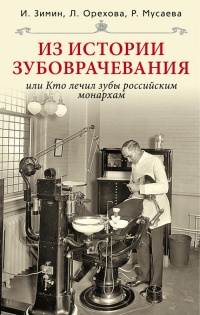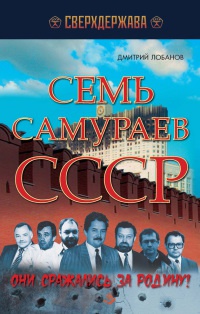бы совершенно спокойно продолжал существовать, принимая как должное, что раз в полгода-год где-то очень далеко из-под его кисти выходит новая картина». «Так это его работы?» — переспросила Елена Михайловна. «Вообще-то, мои, но быть принятым за Бёклина — честь, доступная немногим», — проговорил доктор, и что-то вроде непривычной улыбки свело его до этого неподвижные черты.
С этого момента Петр Генрихович сделался им близким другом и деятельным покровителем. Поскольку значительная часть города была ему тем или иным обязана (врачом он был превосходным), всякий старался ему угодить — если не в рассуждении признательности за уже совершенные благодеяния, то авансом — в счет будущих. Буквально через несколько дней нашелся превосходный купеческий дом с окнами на Песью-Деньгу, уже второй год пустовавший. Владелец его, начитавшись столичных газет, а пуще того — переводных романов, отправился мыть золото на другой конец земли, и после лаконичной открытки, отправленной из Сиэтла прошлой весной, о нем не было ни слуху ни духу. Его жена с тремя детьми (двое девочек-близнецов были прощальным подарком от золотоискателя, родившись ровно через девять месяцев после того, как он сел на пароход, двинувшийся вниз по Сухоне) переселилась к родителям. Доктор, принимавший роды всех троих, пользовавший соломенную вдову и ее мать от нервов, а ее отца от ишиаса, был своим человеком в семье, так что покинутый дом, узнав о нужде его друзей, хотели предоставить бесплатно, в обмен на присмотр, но Лев Львович настоял, что будет платить какую-то весьма скромную сумму. Так же просто нашлась кухарка (впрочем — прескверная), а еще — мальчик для помощи кухарке и ночной сторож. Последнее было сугубой данью традиции: никто в городе не тронул бы друзей доктора — но иметь собственного сторожа было так же ритуально необходимо, как полувеком раньше в Москве ливрейного лакея на запятках. Поэтому был по специальной рекомендации нанят особый зверовидный мужик Поликарп, с наступлением темноты каждый час обходивший дом и сад, взревывая и колотя в особенную чугунную доску. Первое время эти глухие удары в сочетании с издаваемым им медвежьим рычанием сильно беспокоили обитателей домика, которые вместо чаемого спокойствия, напротив, каждый раз начинали паниковать, но вскоре привыкли к этим ежечасным шумам, тем более что удалось синхронизировать их с боем старомодных тяжелых часов, висевших в гостиной. Клавдия на правах домоправительницы долго возилась с этими часами, которые сперва наотрез отказывались работать и только после специальных усилий, тяжело вздохнув, наконец пошли со звонким скрежетом. Днями сторож спал в сарайчике, наполняя всю его атмосферу своим особенным звериным запахом, так что та же Кладвия, приходившая туда, чтобы взять грабли, лопату или еще что-то, нужное для ухода за палисадником (от садовника она отказалась наотрез), вынуждена была зажимать нос надушенным платочком.
Складывалась работа и у Елены Михайловны. Сперва Веласкес, полагая, что швейцарские теории могут небезупречно лечь на тотемскую практику, старался ее беречь, используя лишь для простейших манипуляций, и то в основном под собственным контролем. Она раздавала порошки, мерила температуру, придерживала младенцев, когда доктор при помощи специальной трубки заглядывал им в ушки и ротики, и помогала больничному провизору, мечтательному юноше, немедленно в нее влюбившемуся, готовить препараты при большом наплыве пациентов. Позже, убедившись в ее выучке и хладнокровии, доктор стал доверять ей и более серьезные дела, переложив на нее, в частности, бóльшую часть тягот первичного приема и сосредоточившись на операциях и сложных случаях. В результате хуже всего, как это ни парадоксально, приспособился к сложившейся ситуации сам Рундальцов. С одной стороны, он, если рассуждать формально, получил именно то, что хотел: соединившись браком с возлюбленной, оказался с ней вдвоем почти на необитаемом острове — предел романтики, который, применительно к русским условиям, можно было вообразить. С другой, все это было фарсом и притворством: возлюбленная ночевала в отдельной спальне (порой принимая там гостью, так что Лев Львович, снедаемый ревностью и возбуждением, до утра прислушивался к звукам, доносящимся из-за дощатой перегородки), а сам он был лишен возможности завести себе интрижку на стороне — в маленьком городке это немедленно сделалось бы известным. Не находил он себе места и в практическом смысле: после пары попыток сыскать необременительной работы у Веласкеса он убедился, что его мутит от вида крови и больничных запахов, так что доктор, бесстрастно за ним наблюдавший, счел его для фельдшерской карьеры непригодным. Он подумал было вернуться к своим гидробиологическим исследованиям, но короткое северное лето заканчивалось, так что он не успел бы даже получить по почте выписанные приборы. Несколько раз он ходил в земскую библиотеку, покорно уплатив членский взнос и старательно проглядывая свежие номера журналов, поступавшие в Тотьму хотя и с большим опозданием, но исправно. Пытался даже, вспомнив слова Веласкеса, сказанные им при знакомстве, сам кое-что писать, но тоже быстро приуныл: события собственной жизни, представлявшие, кажется, интерес для романиста, выходили под его пером какими-то сухими строками безжизненной хроники, в которые он никак не мог вместить пережитые им, живым человеком из плоти и крови, ощущения и мысли. Тогда, сдавшись наконец, он, как давно советова-ли ему Елена Михайловна с Клавдией, отправился в учительскую семинарию искать места преподавателя естественных наук. Но и тут его ждала неудача: штат был укомплектован полностью, вакансия ожидалась разве только следующей осенью — и то хлопотать о ней стоило в Вологде. Несмотря на портящуюся погоду, он помногу гулял, исполнял мелкие хозяйственные дела, встречал и провожал Елену Михайловну до больницы, хотя идти там было немногим более десяти минут, перечел дважды Полное собрание сочинений Григоровича, чудесным образом сохранившееся в покинутом доме (кроме седьмого тома, отдельную судьбу которого он иногда старался вообразить), — и все время беспрестанно скучал.
Единственное событие, которое хоть немного позволяло разредить единообразие его будней, — еженедельный чай у доктора, на который по традиции отправлялись втроем. В основном говорили доктор с Еленой Михайловной, причем чаще по делу, заканчивая в спокойной обстановке обсуждения, начатые на работе. Иногда, очень редко, доктор рассказывал о себе, причем биографические подробности обходил очень старательно, но от бесед об искусстве удержаться не мог. В живописи он был самоучкой, никогда не брал уроков, но при этом обладал удивительными познаниями в истории искусств, причем, кажется, достигнутыми не по книгам, а въяве. Хотя он уклонялся от прямых вопросов о совершенных им заграничных путешествиях, было очевидно, что человек, не видевший своими глазами галерею Уффици или Скуолу Гранде деи Кармини, ни при каких условиях не может говорить о содержащихся там шедеврах с такой отчетливой ясностью. Однажды он